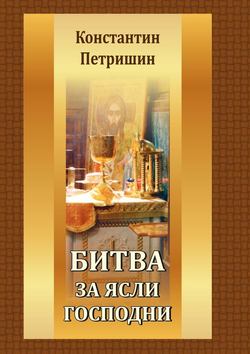Читать книгу Битва за ясли господни - Константин Петришин - Страница 6
Часть первая
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Оглавление1
Письмо от государя князь Горчаков получил 13 июня в Киеве, куда он вызвал на совещание командующих 4 и 5 корпусов генерала-от-инфантерии Данненберга и генерал-адъютанта графа Лидерса со своими командирами дивизий.
Начальнику Дунайской флотилии контр-адмиралу Мессеру, поступившему в его подчинение, князю Горчакову отправил приказ подготовить флотилии для поддержки войск, вступающих в пределы Дунайских княжеств.
К этому дню Дунайская флотилия состояла из двух батальонов и трех десятков лодок, вооруженных 24-фунтовыми орудиями, трех военных пароходов «Ординарец», «Прут», «Инкерман», а также двух лоц-шхун и двух транспортных барж.
Из частей 5-го пехотного корпуса 13-я дивизия, находящаяся в Севастополе, получила приказ на отправление морем в Закавказье, а 14-я дивизия оставалась в Одессе.
Князь Горчаков не любил совещаний, однако обстоятельства заставляли его провести совещание. Слишком деликатная, по его мнению, задача стояла перед ним: не допустить вторжение турков в Дунайские княжества, не вступая с ними в бои.
Совещание князь Горчаков решил провести в штабе Киевского военного округа, назначив его на 10 часов утра 15 июля.
…Первым о готовности войск к переправе через Прут доложил командующий 4-м корпусом генерал Данненберг. Части его корпуса, ранее расквартированные в Киевской, Подольской и Волынской губерниях в количестве 80 тысяч человек, по докладу Данненберга уже заканчивали сосредоточение в районе Леова.
– …Через сутки, – сказал в конце доклада генерал Данненберг, – в район Леово подойдут 10-я полевая артбригада и саперный батальон с понтонным парком. И корпус будет готов к переправе.
Князь Горчаков удовлетворенно кивнул головой.
– Я вот о чем подумал, Александр Николаевич, – обратился он к генералу Лидерсу. – В связи с тем, что на войска 5-го корпуса ложится не простая задача по защите всей территории, прилегающей к Нижнему Дунаю, я полагаю, разумно было бы сосредоточить основные силы вашего корпуса в районе Рении, Измаила и Килина…
Князь Горчаков понимал, что отводит второстепенную роль легендарному генералу Лидерсу, который в 1848 году уже занимал Дунайские княжества, усмирял Венгрию, брал Трансильванию и единственный, кто был награжден австрийским монархом орденом Марии Терезы и Леопольда. Однако изменить что-либо Горчаков не мог, такова была воля государя.
Генерал Лидерс молча выслушал поставленную ему задачу.
– Теперь о не менее главном, – продолжил князь Горчаков и обвел пристальным взглядом всех присутствующих. – Я принял решение сформировать авангард армии в составе 5-й легкой кавалерийской дивизии под началом генерал-адъютанта графа Анрепа, усилив ее конно-артиллерийской бригадой и 34-м Донским казачьим полком с целью двигаться впереди войск 4-го корпуса, дабы не допустить вторжения турок в пределы княжеств с противоположного берега Дуная. Особенно в районах Силистрии, Туртукая и Рущука. Выполняя волю его величества, приказываю: войскам авангарда при сближении с неприятелем, если оно произойдет, вступать в бой только в случае, когда другого выхода нет. Если же турки окажутся в большом числе, и не будет уверенности в положительном исходе дела, отходить в направлении на Фокшаны и Текучь – основного района сосредоточения войск 4-го корпуса.
Пока шло совещание, генерал Лидерс так и не проронил ни слова, несмотря на то, что другие участники совещания живо обсуждали все детали предстоящего перехода через Прут и движения по территории княжеств.
Уже в конце совещания князь Горчаков предложил обсудить вопрос о месте расположении главного штаба экспедиционных войск и назвал города Бухарест и Кишинев. И выжидающе посмотрел на Лидерса.
Генерал Лидерс предложил выбрать Бухарест.
– Здесь много хороших дорог и почтовых трактов, да и сам город расположен так, что и в нем, и вокруг него можно разместить достаточное количество войск, – сказал он. – Преимущество Бухареста и в том, что Дунай здесь широк и полноводен и является серьезным препятствием для неприятеля.
Князь Горчаков сразу же поддержал мнение генерала Лидерса и, тем самым, как показалось ему, растопил лед отчужденности, возникшей между ними с самого начала их встречи.
…Лидерс был моложе Горчакова, но не менее опытен. Он вступил в командование 5-м пехотным корпусом, когда ему было 40 лет.
Князь Горчаков однажды был свидетелем разговора фельдмаршала князя Паскевича с генералом Ридигером, который состоялся в Варшаве в 1848 году после подавления восстания в Венгрии. Князь Паскевич на похвалу Ридигера в адрес командующего корпусом генерала Лидерса, коротко ответил: «…Где корпус Лидерса, там не нужна армия».
По окончании совещания князь Горчаков попросил командующих корпусами задержаться.
– Александр Николаевич, – обратился он к генералу Лидерсу, – я поддержал ваше предложение относительно расположения главного штаба в Бухаресте не потому, чтобы сгладить несуществующую с моей стороны вину перед вами. Однако ответьте мне откровенно, вы уверены в том, что Валахия своими природными условиями защищена от турок более, чем Молдавия?
– Уверен, ваша светлость, – спокойно, глядя прямо в глаза князю Горчакову, ответил генерал Лидерс. – Для нас сейчас главное скорость продвижения, А для этого нужны хорошие дороги. Что касается моей обиды, – продолжил генерал Лидерс, – её не существует. Мне достаточно и тех, оставшихся в моем расположении войск, чтобы выполнить волю государя.
Князь Горчаков был рад словам генерала Лидерса. Они прозвучали искренне и от души.
– Спасибо, Александр Николаевич, – сказал князь Горчаков. – Я рад, что вы уезжаете отсюда, надеюсь, с легким сердцем. Я сегодня же покидаю Киев и направляюсь со штабом в Леово, затем в Фокшаны.
Уже прощаясь, генерал Лидерс посоветовал:
– Михаил Дмитриевич, для более быстрого продвижения авангарда граф Анреп мог бы использовать местную милицию…
Князь Горчаков поднял руки так, словно хотел защититься от Лидерса.
– Ни в коем случае, Александр Николаевич! – возразил он. И, заметив недоумение на лице Лидерса и Данненберга, поспешил пояснить:
– На этот счет есть строгое указание из Петербурга…
– В столице опасаются мести турок в случае вывода наших войск из княжеств? – уточнил Лидерс.
– Я уверен, что так и будет, – ответил князь Горчаков.
Генералы Лидерс и Данненберг переглянулись.
– Михаил Дмитриевич, вы меня извините, но это неразумно, – не сдержался генерал Лидерс. – По моим сведениям валахская милиция состоит из 3-х пехотных полков и нескольких эскадронов гусар. Столько же и в молдавской милиции.
Лидерса поддержал Данненберг.
– Михаил Дмитриевич, и милиция Молдавии, и милиция Валахии обучена по нашим воинским уставам! В столице всегда чего-нибудь, но опасаются.
Горячая поддержка Данненбергом генерала Лидерса, слегка смутила князя Горчакова.
– Господа, я лично не возражаю. Вопрос в другом. Что скажут в Петербурге? – князь Горчаков тяжко вздохнул и махнул рукой. – Ну, хорошо… Пусть будет по-вашему. Наверное, один бог безгрешен.
…В Леово Горчаков с частью своего штаба прибыл утром 7 июня. За двое суток, которые он пробыл в пути, многое передумалось. Больше всего князя Горчакова волновало то, какие силы турки могут выставить против него?
Турецкая армия в это время больше походила, как однажды выразился фельдмаршал князь Паскевич, «На черт знает что».
В нее входили пешие и конные эскадроны, полевая стража, наемники из татар, населяющих Малую Азию, несколько иностранных легионов, баши-бузуки, волонтеры из мусульман и даже казаки-некрасовцы, бежавшие из России и поселившиеся в Малой Валахии. До 1828 года в турецкой армии служили и запорожские казаки, однако, опомнившись, во главе со своим атаманом Гладким, попросились в Россию, где им было разрешено расселиться по берегам Азовского моря.
Не давала покоя и другая мысль: по сути дела ему предстояло воевать с завязанными руками. Да и слово воевать как-то не подходило ко всему происходящему.
2
В этот же день 17 июня, в Леово стали пребывать части, входящие в состав авангарда армии.
Генерал-адъютант граф Анреп прибыл вместе со 2-ой бригадой генерал-майора Каннского. Бригада состояла из двух полков: гусарского его королевского высочества принца Фридриха-Карла Прусского под командованием генерал-майора Сальского и полка его светлости генерал-фельдмаршала князя Воронцова под командованием полковника графа Алопеуса.
К концу дня подошла и 1-я уланская бригада генерал-майора Комара.
Князь Горчаков предложил генералу Анрепу не терять время и сразу приступить к переправе через Прут.
– Ваша задача, граф, более чем серьезная, – напомнил Горчаков. – Государь не желает открытия военных действий, однако требует не допускать перехода турок на левый берег. Что я вам могу посоветовать в таком случае… Первым делом, послать парламентера и потребовать от противника отойти за Дунай. Можно не скрывать, что за вами идет армия…
– Ну, а если турки откажутся отойти?
В вопросе генерала Анрепа князь Горчаков уловил нотки насмешки. Однако сделал вид, что не заметил этого.
– Тогда, если противник не превосходит вас числом, принудить его выполнить ваше требование силой… – ответил он.
– Вступить в бой? – уточнил генерал Анреп.
– Другого выхода, к сожалению, я не вижу, – пояснил князь Горчаков и тут же добавил: – Только не будьте излишне самоуверенны. При необходимости вы вправе дать приказ на отход на Фокшаны или Текучь. Ну, с богом, – и Горчаков обнял Анрепа за плечи.
…34-й Донецкий казачий полк, входящий в состав авангарда, опаздывал. Он приступил к переправе через Прут только в ночь на 19 июня, когда головные части авангарда уже форсированным маршем прошли через Фальчи, Текучь и Фокшаны в сторону Рымника и Бухареста.
…20 числа в Леово прибыл командующий 4-м корпусом генерал Даннерберг со своим штабом.
Сразу же было определено время и порядок переправы войск 4-го пехотного корпуса через Прут в двух местах: под Леово и у Скулян.
Князь Горчаков посоветовал Данненбергу после переправы начать движение тремя войсковыми колоннами: одной, под командованием генерал-лейтенанта Липрянди, в составе 12-й пехотной дивизии, переправившись у Скулян, форсированным маршем двигаться к Фокшанам. Другой, во главе с самим командующим корпусом, в составе 10-й и 11-й пехотных дивизий с артиллерией, двумя саперными батальонами, понтонным парком, госпиталем и двумя донецкими казачьими полками после переправы у Скулян двигаться на Яссы и Бухарест. Третей колонне под командованием генерал-лейтенанта графа Нирода, в составе шести батальонов, с понтонным парком, госпиталем и пятью сотнями 37-го Донского казачьего полка, переправившись у Леово, форсированным маршем двигаться через Фальчи, Берлад в направлении на Текучь.
– …Единственная просьба к вам, – сказал князь Горчаков, обращаясь к генералу Данненбергу, – прикажите проследить за порядком на переправах и не допустить не нужных потерь по разным несчастным случаям при таком скоплении войск.
– Все будет сделано, Михаил Дмитриевич. Не волнуйтесь, – ответил генерал Данненберг. – Я постараюсь, чтобы переправа прошла благополучно, – и вдруг спросил: – От Лидерса какие сообщения есть?
– Он уже расположился с подчиненными ему войсками под Рении и Измаилом, – ответил князь Горчаков.
Генерал Данненберг сочувственно качнул головой.
– Да… Один из лучших командиров… – произнес он. – Достойный воспитанник графа Ридигера… Я помню, сколько славы обрушилось на Лидерса, когда он в 1839 году со своими егерями в авангарде армии преодолел Балканы без потерь и в немыслимо короткий срок. И это в тридцать лет от роду… Что-то здесь не так, Михаил Дмитриевич, – сказал под конец Данненберг. – Однако в любом случае Лидерс заслуживает большего доверия. И еще, Михаил Дмитриевич: в войсках корпуса наличие продовольствия не более чем на двадцать дней. Дальше надо думать…
– Уже продумано, – ответил князь Горчаков. – Фельдмаршалом князем Паскевичем отдан приказ выделить нам из Каменец-Подольских складов провиант на месяц. А по прибытию на места дислокации будем договариваться с местными властями о закупке у них продовольствия и фуража.
На этом они распрощались.
Князь Горчаков намеревался оставаться в Леово не более двух суток. За это время, по его расчетам, за Прут переправятся все тылы. Затем переехать в Фокштаны, а оттуда в Бухарест.
…К концу суток от генерала Анрепа пришло первое сообщение: его авангард двигался быстро при доброжелательном отношении населения. Турок в селениях не было. По всей видимости, осведомленные о движении русских войск, они заранее покидали свои дома и торговые лавки и уходили за Дунай.
Однако намерение князя Горчакова по истечению двух суток выехать в Фокштаны пришлось отложить до 4 июля по причине задержки отгрузки провианта со складов Бессарабии и отсутствия должного количества транспорта для доставки провианта в места его назначения – Яссы, Бырлады, Галан, Браилов и Будзео. В Текучь и Фокшаны склады с провиантом к этому времени уже прибыли.
Князь Горчаков с облегчением вздохнул, когда 1 июля получил от генерала Данненберга доклад о занятии его войсками Бухареста.
«…В связи с тем, что казармы в городе тесные и мало пригодные для проживания личного состава, – сообщал Данненберг, – я принял решение о расквартировании части корпуса в близлежащих населенных пунктах под ответственность местных властей.
С Господарем Валахским князем Стир-беем состоялась встреча, на которой он выразил понимание по поводу нашего присутствия в Валахии. Видимой враждебности он не проявил.
В связи с возможными затруднениями в обеспечении войск продовольствием, я поручил интендантской службе вступить в переговоры с местными купцами по вопросам поставки продовольствия, дров и фуража.
Что касается турок: по докладам наших постов и разговоров с местными жителями, можно сделать вывод, что они появляются здесь редко и, в основном, с торговыми целями. Не исключено нахождение среди них лазутчиков».
…6 июня князь Горчаков со своим штабом прибыл в Бухарест. В это же день состоялась встреча с местным господарем, которая не удовлетворила князя Горчакова.
Господарь не смотрел в глаза и не на один вопрос прямо не ответил. Он явно опасался и русских, и турок.
В этот же день князь Горчаков встретился с русским консулом графом Соколовым и изложил ему свою просьбу оказать содействие в обеспечении войск продовольствием и фуражом. На удивление князя Горчакова уже через три дня граф Соколов сам приехал к Горчакову и доложил, что правительство княжества готово снабжать русские войска всем необходимым по ценам, установленным в княжестве, а также оказать помощь в размещении нижних чинов по квартирам, предоставить местные пастбища и подводы для перевозки грузов.
– Как же это вам удалось? – поинтересовался князь Горчаков. – После моей встречи с Господарем, я уже не рассчитывал на добровольную помощь.
Граф Соколов загадочно улыбнулся.
– Ваша светлость, Михаил Дмитриевич, имея за собой такую армию, можно добиться любого сотрудничества, – ответил он.
– Ну, спасибо вам, – от души поблагодарил консула князь Горчаков.– Я непременно доложу о вашей помощи в Петербург, – пообещал он. И тут же добавил: – Верно говорят в нарде: не стоит город без святого, а селение без праведника…
– Михаил Дмитриевич, разрешите один вопрос? – обратился к князю Горчакову граф Соколов, не обратив внимания на последние слова князя.
– Пожалуйста…
– С вашим штабом сюда прибыл некий майор Том, подданный Австрии. Какую роль он выполняет при штабе? Если это секрет, вы можете не отвечать.
Князь Горчаков был поражен осведомленностью консула. Майор Том был прокомандован к его штабу по просьбе австрийского правительства и с согласия фельдмаршала князя Паскевича для наблюдения за ходом пребывания русских войск на территории Дунайских княжеств.
Объяснив это графу Соколову, князь Горчаков в свою очередь спросил:
– А почему он вас заинтересовал?
– Михаил Дмитриевич, у меня есть сведения, что майору Тому поручено кроме всего прочего, вступить в сношения с молдавскими и валахскими боярами и склонять их выступать против нахождения нашей армии на территории Дунайских княжеств.
Князь Горчаков был шокирован услышанным. Он даже слегка растерялся.
– Но, это же… черт знает что! – выругался он. – Я немедля прикажу отправить этого майора из армии!..
– Михаил Дмитриевич, у меня к вам просьба, – консул внимательно посмотрел на князя Горчакова. – Не трогайте его пока. У меня есть, кому за ним проследить и, заодно, выяснить с кем он будет встречаться, и кто ему станет помогать.
Князь Горчаков согласился с просьбой графа Соколова. Уже прощаясь с ним, не стерпел и сказал:
– Бес не пьет, не ест, а пакости делает…
– На то он и бес, – усмехнувшись, ответил граф Соколов.
3
9 июля граф Титов получил телеграфированную депешу из Одессы от князя Озерова. В ней сообщалось, что 5 июля состоялось заседание турецкого правительства, на котором командующий регулярными войсками
Порты, Мехмед-Али выступил с требованием предъявить России ультиматум в связи с занятием русской армией Дунайских княжеств и потребовать их вывода, ссылаясь на поддержку Турции со стороны европейских держав. Каких именно, Махмед-Али не назвал.
Граф Титов тут же отправился к канцлеру графу Нессельроде, чтобы доложить ему о полученной депеше. В приемной канцлера он увидел князя Меньшикова. Граф Титов искренне обрадовался этой неожиданной встрече.
– Каким ветром, Александр Сергеевич, вас занесло в столицу? – спросил Титов, крепко пожимая руку князю Меньшикову.
– По всей видимости, ветер у нас теперь один, – ответил князь Меньшиков. – И дует он из Европы.
– А сюда по делам? – Титов глазами указал на дверь кабинета канцлера.
– Как и вы. Еду в Варшаву. Приглашен для напутствия…
В это время дверь открылась, и канцлер Нессельроде сам вышел в приемную. Увидев князя Меньшикова и графа Титова вместе, сделал вид, что удивлен.
– …А, впрочем, я рад, что так произошло, – сказал он. – Проходите оба. Я думаю то, с чем пожаловал граф Титов, будет не безинтересно услышать и вам, Александр Сергеевич. Я сейчас дам кое-какие распоряжения и вернусь.
«Неужели уже знает? – подумал Титов. – Но, откуда?..»
Граф Нессельроде вернулся через две-три минуты. И прямо от двери сказал:
– Докладывайте граф, что за депешу вы получили из Одессы? – Нессельроде прошел к столу, сел и приготовился слушать.
Граф Титов не стал докладывать. Он просто зачитал депешу дословно, чтобы Нессельроде не смог истолковать его слова как-то по-своему.
– Плохая новость, господа… – задумчиво произнес Нессельроде и добавил: – Этого я и боялся… Европа, как бы нам не хотелось, расценит наше вторжение в Дунайские княжества, как посягательство на суверенитет Турции. И особенно будет стараться Людвиг Наполеон. Ему этого как раз и не хватало…
– Войны? – уточнил князь Меньшиков.
– Конечно, Александр Сергеевич. Война для него сегодня главная цель. Ему необходимо выбить из памяти французов гром пушек и лужи крови на парижских мостовых, оставшихся после восхождения его на французский трон…
– Карл Васильевич, но министр лорд Эбердин заверил меня в том, что Лондон не допустит войны! – неуверенно заявил Титов. – Что же теперь никому нельзя верить?
Канцлер Нессельроде вяло махнул рукой.
– Вы знаете, сударь, почему девице разрешено грешить? Нет? Иначе ей не в чем будет каяться. Ваш лорд Эбердин говорит одно, а их посол в Константинополе лорд Редклиф делает другое. Я верю депеше Озерова. Только его величеству об этом сообщать, пока не следует, – неожиданно предупредил он. И тут же пояснил: – Государь не совсем здоров, это одно. И другое – надо выждать немного… Наш мир настолько изменчив…
Канцлер Нессельроде не стал пояснять, что он имел в виду, выражаясь по поводу изменчивого мира. Однако и князь Меньшиков, и граф Титов догадались: у канцлера есть потаенная мысль, о которой он не хочет говорить. Князь Меньшиков и граф Орлов еще не знали, что на 20 июля в Вене намечено проведение конференции представителей Пруссии, Австрии, Франции, и Англии, на которой предполагалось обсудить положение в Европе после ввода русских войск в Дунайские княжества. Турция на конференцию не приглашалась.
Граф Нессельроде надеялся, что в Вене произойдет разлад среди участников конференции, и Турция не будет услышана.
На этом разговор по депеше был окончен. И канцлер Нессельроде обратился к князю Меньшикову.
– Александр Сергеевич, напутствий я вам не дам. Вы знаете, зачем вы едете в Варшаву. Я думаю то, что вы услышали здесь, поможет вам как-то сориентироваться и в военных делах. Фельдмаршал Паскевич крут и несговорчив, однако, после отъезда князя Горчакова из Варшавы он в трудном положении. Полагаю, это и поможет вам в вашем деле. Ну что, судари, более я вас не смею задерживать, – произнес Нессельроде и встал, давая понять, что прием окончен.
…23 июля на имя канцлера Нессельроде из Вены пришла нота, в которой участники конференции выразили свое недоумение по поводу конфликта между Россией и Турцией, и высказали надежду на то, что спор будет устранен мирным путем. О занятии русской армией Дунайских княжеств в ноте не было сказано ни слова.
Прочитав ноту, граф Нессельроде сразу успокоился. Насторожила только одна, казалось бы, на первый взгляд не существенная подмена понятий. В ранее достигнутых договорах между Россией и Турцией было прописано «…Покровительство Блистательной Порты христианского богослужения». В ноте же было… «…Покровительство Блистательной Порты христианской религии».
Граф Нессельроде счел эту подмену не совместимой по понятиям. Покровительствовать христианской религии султан, по мнению графа Нессельроде, не имел права. Ибо богослужение – это одно, а религия – другое, косаемое христианского вероисповедания и других народов, в том числе и русского, признанным покровителем которого был русский царь.
Решив, что об этом надо доложить государю, граф Нессельроде поехал в Зимний дворец.
Однако Николай I отнесся к сомнениям Нессельроде равнодушно. Выслушав его, государь сказал:
– Карл Васильевич, у нас появилась возможность, избежать войну. Не ищите ее там, где ее нет, – и добавил: – Сделайте им ответ, мы принимаем ноту в том виде, в каком она есть.
Граф Нессельроде обратил внимание на подавленное настроение государя. Вспомнил недавний разговор с лейб-доктором Арендтом, который посетовал на то, что государь в последнее время стал часто вспоминать о несчастном случае в ночь с 25 на 26 августа 1836 года, который произошел с ним по дороге из Пензы в Тамбов, когда кучер, не заметив крутого спуска, потерял управление лошадьми, и коляска государя опрокинулась на бок. С сотрясением мозга и переломом ключицы государь был отправлен без сознания в Тамбовскую больницу.
«…Он часто повторяет, – сказал тогда доктор Арендт. – Вот Бенкендор сидел со мной рядом по правую сторону, не ушибся, а в живых его уже нет. А я ушибся и живу…»
…30 июля граф Нессельроде отправил ответ с согласием на ноту Венской конференции. В делах и заботах прошел август. И вдруг 12 сентября из Вены пришло сообщение, которое потрясло Нессельроде. Поверенный в делах Австрии в Константинополе Клецль донес своему правительству, что 9 сентября в Константинополе начались массовые волнения христиан. Турецкие власти обвинили Россию в подстрекательстве христиан к неповиновению султану. В связи с этим турецкое правительство заявило, что оно отказывается принять согласованный ранее с ним текст ноты представителей четырех держав на Венской конференции и ни на какие уступки России не пойдет.
Клецль также сообщил, что в тот же день англо-французский флот вошел в Босфор под предлогом защитить султана.
Два дня Нессельроде не решался идти к государю с докладом о случившемся, надеясь, что участники Венской конференции каким-то образом повлияют на турецкие власти.
…15 сентября поздно вечером домой к Нессельроде прибыл курьер с депешей, полученной по телеграфу из русского посольства в Вене. В телеграмме сообщалось, что накануне на чрезвычайном Совете Порты было принято решение объявить России войну.
Часом позже такое же сообщение пришло из Одессы от графа Озерова. Озеров так же сообщал, что Главнокомандующий турецкой армии в Болгарии генерал Омер-паша получил приказ потребовать от князя Горчакова вывести войска из Дунайских княжеств в течение 10 дней. В случае отказа Омер-паша грозил начать военные действия…
В восемь утра Нессельроде был уже в Зимнем. Зная неукоснительный распорядок государя с 7 до 8 часов пить кофе и беседовать с лейб-доктором Арендтом и его помощником Соколовым, Нессельроде, дождавшись ухода докторов, попросил разрешения войти к государю в столовую.
Николай I был одет по-домашнему. Мельком взглянув на Нессельроде, произнес:
– Вижу, вижу, не с хорошими известиями пожаловали, Карл Васильевич. Иначе бы вы не пришли ко мне в неурочное время. Говорите сразу.
С трудом, преодолевая волнение, Нессельроде произнес:
– Ваше величество, я получил сообщения из Вены от нашего посла и от графа Орлова из Одессы… Турки объявили нам войну…
– Войну?.. – почему-то переспросил государь.
– Да, ваше величество…
– Вот и хорошо, – неожиданно, совершенно спокойно ответил государь. – Значит, на то воля господня…
Нессельроде был поражен спокойствием Николая I. Ему даже показалось, что государь не понял, о чем идет речь.
– Ваше величество, граф Орлов сообщил так же, что командующему турецкими войсками в Болгарии генерал Омер-паше поручено потребовать от князя Горчакова вывести наши войска из Дунайских княжеств в течение 10 дней…
– Вот как… – усмехнулся Николай I. – Генерал Омер-паша говорите… Когда я командовал второй гвардейской бригадой этого Омер-пашу я знал как полковника Латтаса, подданного Австрии, хорвата по происхождению… и басурман по вероисповеданию. Ну, посмотрим, на что он способен… Вас попрошу, приказать немедля вызвать ко мне князя Долгорукова. Сами же пошлите срочную депешу князю Паскевичу с сообщением об объявлении нам войны турками, – Николай I с минуту помолчал, затем продолжил: – Видит бог, я не жаждал этой войны, хотя и готовился к ней и как государь, и как христианин…
4
…Решение Николая I ехать в Австрию на военные маневры в Ольмюц, по приглашению австрийского императора Франца-Иосифа, Двор расценил, как желание государя попытаться создать союз в противовес уже явно сложившейся коалиции Англии, Франции и Турции. Канцлеру Нессельроде Николай I сообщил, что он тоже едет с ним, чтобы там встретиться со своим коллегой Буолем.
…Маневры в Ольмюце длились три дня. Сначала государи наблюдали за действиями пехоты на равнинной местности, затем им были показаны артиллерийские стрельбы из новых длинноствольных орудий, которые вели огонь не только зажигательными бомбами, но и разрывными снарядами. В заключение маневров легкая кавалерийская бригада продемонстрировала атаку противника с фронта и с флангов, при поддержке артиллерии.
Франц-Иосиф был доволен маневрами и все время, обращаясь к Николаю I, бесцеремонно хватая его за рукав мундира.
– Какие молодцы! – восторгался он. – Вы посмотрите, как они лихо скачут!..
Граф Нессельроде и Буоль все время сопровождали их величества.
Нессельроде видел, что настроение Николая I становилось все мрачнее. Государь явно тяготился своим присутствием в Ольмюце в качестве почетного гостя.
По окончанию учений, уже по дороге в отведенную для государя резиденцию, Николай I сказал Нессельроде:
– … Все они одним миром мазаны… – и неожиданно спросил: – Здесь когда-нибудь щи варят или хотя бы гречневую кашу?.. Вчера попросил сделать картофельный суп и что вы думаете?.. Приготовили, черт знает что!.. Они даже не знают, как протереть картофель!..
Нессельроде догадывался: раздраженность государя была результатом неудовлетворения Николая I своим визитом. Уже в последний день Нессельроде с Буолем подготовили ноту австрийского правительства к правительствам Пруссии, Англии и Франции, в которой говорилось, что в намерениях императора России по вопросу Святых мест нет ничего, что оскорбляло бы достоинство Турции, а ввод русских войск в Дунайские княжества является вынужденной мерой и не преследует цель отторжения этих территорий в пользу России.
На прощанье в Ольмюцком замке Франца-Иосифа в честь Николая I был дан роскошный обед, на котором присутствовали все министры венского правительства.
Император Франц-Иосиф, поднимая хрустальный бокал с вином, торжественно произнес.
– Друзья мои! Рядом со мной находится великий человек, которому мы обязаны спасением Австрии от венгерской революции. Я до сих пор не стыжусь, что когда-то публично прикоснулся своими губами к его державной руке! Я предлагаю осушить бокалы за здоровье его величества императора России Николая I.
После этих слов Франца-Иосифа все поднялись с мест, кроме Николая I. Перед ним стоял бокал с водой, подкрашенной по его просьбе вишневым соком…
На следующий день Николай I отъехал в Варшаву. В Ольмюце он получил через посольство в Вене телеграфированную депешу от князя Паскевича, в которой выразилась просьба, по возможности, не обратном пути заехать в Варшаву.
…Был теплый воскресный день, когда Николай I въехал в Варшаву в сопровождении сотни улан. У старинных крепостных ворот с хлебом и солью его встретили представители польских магнатов, сенаторы и депутаты. До Бельведерского замка, на всем протяжении дороги, стояли поляки, однако на их лицах не было видно радости. Скорее они выражали покорность, как и те, кто встречал у крепостных ворот.
Николай I это заметил и сказал сидевшему рядом с ним графу Нессельроде:
– Покорность – это тоже положительное качество народа…
Граф Нессельроде догадался, о чём говорил государь. Он промолчал, хотя и не был согласен с Николаем I, зная на многих примерах, чем оборачивается покорность народов, достигнутая насильственным путем.
Для Нессельроде сказанное государем казалось не столь важным. Его мысли были поглощены другим. Перед отъездом через венское посольство он договорился от имени государя о приезде в Варшаву прусского короля Фридриха-Вильгельма, отношения которого с Николаем I были не столь безоблачными.
Николай I всегда отдавал предпочтение в спорных делах Австрии в ущерб Пруссии, несмотря на то, что русский посол в Берлине пользовался такими правами, каких не было ни у одного посла в других европейских государствах. Ему даже позволялось вести надзор над немецкими газетами.
…Старый фельдмаршал князь Паскевич был искренне рад приезду государя. Сначала в церкви замка прошел молебен во здравие государя и уже после этого они уединились в кабинете фельдмаршала.
– Ваше величество, – начал разговор князь Паскевич, как только увидел, что государь готов его слушать. – По сведениям, которые, я имею от Горчакова и из других источников на сегодняшний день, обстановка складывается таким образом: английские и французские флоты стоят в Босфоре в полной боевой готовности. Турецкий же флот курсирует к восточным берегам Черного моря и снабжает оружием кавказские племена и народности. Основным местом стоянки турецкого флота является Синопская бухта, которая надежно охраняется артиллерией береговых крепостных сооружений…
Государь побарабанил пальцами по подлокотнику кресла.
– Значит, они имеют намерения начать боевые действия и в Закавказье, – произнес он.
– Да, ваше величество, – подтвердил фельдмаршал. – Надо полагать, князь Воронцов уже знает об этом.
– Знать то знает… Только дело идет к зиме, да и войск у него недостаточно… Ну, хорошо. Это мы как-нибудь уладим. А что у самого Горчакова? – поинтересовался Николай I.
– Срок турецкого ультиматума, как вы знаете, истек, – ответил князь Паскевич. – Горчаков сосредоточил в основном войска в окрестностях Бухареста. Это около 47 тысяч. Одна пехотная и одна кавалерийская бригады находятся в Кишеневе. Всего в распоряжении Горчакова 60 тысяч человек. Что касается турецкой армии Омер-паши, она по разным сведениям насчитывает около 130 тысяч человек. В районе Шумлы – 30 тысяч. Здесь же находится и сам Омер-паша со штабом. В районе Андрианополя – тоже до 30 тысяч. Остальные войска занимают правобережье Дуная от устья до Видино. Как видите численное преимущество на их стороне значительно…
Николай I встал, сделав рукой легкий знак рукой, чтобы фельдмаршал не поднимался с места, и прошелся по кабинету раз, другой, третий. Прошло так несколько напряженных минут. Наконец он спросил:
– Ну и что нам делать дальше, Иван Федорович?
– Ждать, ваше величество, – неожиданно ответил фельдмаршал Паскевич. – Время работает на нас.
– Вы уверены?
– Да, ваше величество. Союз Турции, Англии и Франции непрочен. У каждого из них свои цели и планы. Людовиком Наполеоном движет чувство мести России и желание добиться успеха в войне, утвердив, таким образом, себя как правителя Франции. Англичане ненавидят французов и, если примут участие в компании против нас, то разве что на море или ограниченным десантом на побережье. У них главная цель не допустить Россию в Закавказье и сохранить за собой торговые пути в Индию и в среднюю Азию. Что касается турок – они боятся и французов, и англичан. Какой же это Союз, ваше величество?
Николай I ничего не ответил. Он подошел к окну. Некоторое время молча стоял, наблюдая, как во внутреннем дворе замка идет смена караула, и только потом произнес:
– И все же, дорогой князь Иван Федорович, мы стоим пред фактом такого Союза. Когда Фридрих-Вильгельм прибывает в Варшаву?
– Если не сегодня вечером, то завтра утром, – ответил фельдмаршал. – Распоряжения какие-нибудь будут?
– Нет, Иван Федорович, – ответил Николай I. И добавил: – Если приедет утром – это даже лучше. Ибо утро вечера мудренее.
…Худшие опасения канцлера Нессельроде сбылись. Фридрих-Вильгельм по прибытию в Варшаву заявил Николаю I, что Пруссия намерена держать нейтралитет в споре между Россией и Турцией. Что касается содержания венской конвенции в ней правительство Пруссии не находит ничего, что бы могло нанести ущерб интересам России.
В Варшаве Фридрих-Вильгельм не стал задерживаться. На следующий день он уехал в Берлин.
Часом позже Николай I покинул Бельведерский замок.
…Всю дорогу до Петербурга канцлера Нессельроде не покидала мысль: когда была совершена роковая ошибка, которая привела Россию к изоляции со стороны многих европейских держав?
Нессельроде в душе был против «Европейского романтического Союза», созданного по воле императора Александра. В нем все казалось несерьезным и надуманным. С восшествием на престол Николая I начал складываться новый Союз.
В 1833 году был заключен договор с Австрией и Пруссией о взаимной помощи и поддержке. Этот договор предусматривал взаимную помощь на случай внутренних беспорядков, однако вызвал почему-то у многих европейских держав опасение. А появление в дальнейшем русских войск в Европе – чувство страха.
«…Господи, – взмолился про себя Нессельроде, отчаявшись найти оправдание тому, что произошло и, которому он был не просто свидетелем, но и активным соучастником, – подскажи, где найти спасение душе в страхе и подозрениях? Неужели выход только в войне? Но не может даже священная война быть успокоением и оправданием грехов, творимых нами на земле. Ибо сама война – величайший грех, который нельзя искупить ни чем…»