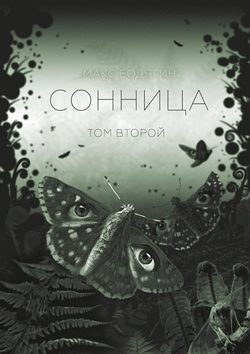Читать книгу Сонница. Том второй - Макс Бодягин - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть четвёртая
ПРА ИВАНОВА ИЩО
ОглавлениеКаг вы ужэ понили, маи нерозумные юные друзиа, со времинем я начил проподать у Ивонова больши, чем ищо где-небуть. У Крома ночались праблемы с тьолочкой из саседней школы для буржуинов, в каторую я нипапал по нидаразумению.
Потавошта мой страшный брателла папросил маму атправить миня в тот канцлагирь, где учился он сам и патавошта он за мной бе пресматревал. Поскоку он был песдец-зюдоист, пресматревал он качиствино: если хоть какая-то хуита косо зырила в маю сторану, братела телепартировался из пустаты и метал эту наглую хуиту черес бидро об дащатый школьней пол. Патом он памог и Крому, када к ниму навалилась талпа злых малалетнех угаловнеков, узнаф, что кромовая хата вечно пустая, патавошта папа-геолаг вечно рыщит в поисках палезнех искапаемых на благо нашей сацеалистическай Родины. Братела очень силно бил всю эту хуиту, а Кром молча смарел и запаменал.
В ту осинь таквышло, шта Кром пирижевал из-за крушениа личнай жызне, а я ни знал об етом, патавошту зависал у Ивонова день за дньом. Чтобы унять дрош в одинокем подросковем хую, внизапно оказавшемся бес слаткех булотчег, Кром пашол нилигально занимацо карате в каком-та падвале, куда ево атвел мой страшный брад. Там он сбевал себе дакрови сваи худые тада кулоки, крича «кия» и приставляя, шта он Брусли, в жолтой пижаме шенкующий в копусту агромных нигерав. Мы видилесь тока в класе, на ибучих уроках, каторыи становилесь всьо хужи и хужи. Учителя задрачивале нам моск скаскаме про светлоэ будущие, кде мы абогнале Омереку по каличеству бабла на каждую жевую и мьортваю душу, а сами апсушдале в каредорах кено про «Интырдевачко» и «Малинькуюверу». В паследней опупее тьолочка па имене Нигода паказывала сисечьке (спасиба ей за эта рашерение нашева сексуальнева кругазора), паэтаму мы смарели ийо рас пицот, хатя чесно кено была проста уныле савецке вата ниачом. Ищо в кено показывали «Лигенду о Нароями», кде ипонцы живо расдвигале гроницы нашых наивнех приставленей о Сексе. Нопример, один ипониц там ибал сваю белую сабаку, что в наших кроях козалось канцом света.
Я пазвал Крома на эту «Нарояму», а он сказал, что иму очень плоха из-за тьолочке, которую злой папек не отпускает пихацо с Кромом в разне атверстия. Такая у нево была любовь. В приступи састродания к другу я атвьол иво к Ивонову, с нослождением ноблюдая, как вытягиваица кромовое ибальце, када видет берлогу Ивонова эзнутри.
Ивонов жыл таг: летам он шобашел на шобашках, вазводя каровнике и протчие колхозне пастройке в заброшенех диревнях па всиму свету, зорабатывая на этам немерянае каличесва бабосав. Он был и каменьщек, и щекатур, и плотнег и главней осеменятор всех акреснех доярак, каторые рады быле за харошую палчонку напаить гарадскова бидалагу в бальших ачках на плюз пиисят деоптрей бедончеком парнова диревенскава малака. Земой на диревенские дали спускалесь глубоке снега, доярке вподале в спячку вместе с притседателеми калхозов, плотившех Иванову денге, паэтому земой он занемался сваей любимай ноукой. Стены в ево конуре были обклеины не абояме, как у чесных савецких граждан, жевущих от получки да палучке в абнимку с толстай жиной и бутылкай вотке. Стены в ево кануре обклеивала жэлтоватая пищая бумага, каторую он пакрывал сваими карявыми письминаме. Адну стену ищо занимале полке с плостинкаме ракенрола и блуза, и горы кник па математеке, ат каторой он схадил с ума. На астальных стенах он песал, притчом дажэ в сартире, чулани и ванней. Пра кухню яуш и ни гаворю.
Пака мы, два чесных падроска, пили «Агдам» с яблакаме, упеваясь кросотой и срастью ракенрола, он пириодическе вскакевал и пакрывал ачиридной кусок стины сваиме коракуляме, ипселонаме и дэльтаме. Сночала я думал, шта он хочит чево-то докозать, но патом проста понил, шта так в ньом вырожаеца васторк ат музыке и партвейна. Таков был ево мотемотическей аргасм.
Какта рас вечиром, пака папа-прафесар кде-то засовывал свои кревые пальцэ в прамешность очиредной студентке, ставшей жэртвай ево пидофилическай страсти, я спрасил у мамы, знаит ли ана такова Иванова. Мама чево-то ожевилась и скозала, шта не проста знаит. Акозалось, они дажэ дружиле, пока она не вышла замуш за атца, пасколько мой страшный брат-зюдоист ужэ неистава выперал из ийо недевичева жевота. Уже тагда мой папа, ищо не будуче прафесаром, уже падавал все нодешды на то, шта из нево вырастет бальшой взростлый педорас, а не проста какая-та педарская лечинка.
Праблема была в том, шта Ивонов был очинь талатлевый геней мотематики, причом геней-самоучка, как Ламоносав, пришетший со сваим рыбным абозам изнеоткуда сразу в Окадэмию Ноук. Ивонов тожэ выпалс из кокой-та затхле дэры, где кроме нево жыли толька каровы и жужале овады, этиме кароваме петавшиеся. Такой генеальне Маугли бысро вырас в глозах прафесарскаво калектива и ужэ к пятаму кусру зафигачел штота пахожее на взростлую дисертацею. Иво стале щетать ужэ нипросто толантом, а прямо новем Лабочевскем. Пака мой папа да крававых мальчеков в глозах пыжелся выбица хотябе в атличнике, Ивонов ужэ песал кокие-то гиниальне стотьи на английскем и фронцуском изыках в буржуинске мотемотические журналэ. Эта был папин шанз: савецкий чилавег, пишущей на фронцуском – стопудовый шпеон и прадаст сацелистическую Родину оптом и врознецу, как тока ему предстанет вазможнасть. Ктамужэ Ивонов ужэ тагда зарабатэвал бабосы, вазводя калхозникам манументальные каровнеки по всей нашей ниабъятной стране. А эта признаг нравстинаво разлажения, паскоку карысталюбие не красет савецкаво студента.
Годы лители как птицы летяд, Ивонов стал самэм малодым доктаром ноук в нашим универсетете, а мой папа всьо ищо был никемъ, паскольку у нево от прероды есть лишь адин толант – срать другим на голаву и портидь им жысь. И он каждей гот панемногу срал Ивонову в нодежде на то, шта када-нибуть кретическая маса гавна накопица, ностигнед оппа-гея и ебанёд гавнявым взрывам, смитая фсё на свайом пути, в том чесле нинависнаво Иванова.
И туд случилозь гаткое папино щастье: Иванов даказал нито теарему Ферма, нито ищо штота такое-жи недакозуемое, чево в мире нимок дакозать ваще никто, фключая всех розрабочеков НАСА и все мировые инстетуты мотематики и прилагающехся ноук. Это была бонба. Работале все радеостанцеи Савецкаво Саюза, савецкае Инфорбюро онемело от васторга, требуны замерли в ажедании и даже пирестали грысть семечки. Нушно было ехадь в Маскву, штобы там навалять пасаплям всем масковскем типа учоным теми удевительнэми доказательсваме, шта дакозал Иванов. В пирспективе моячели Пориж, Нуйорк и Токео. А там и до Сотурна с Марсам рукой пададь.
И туд мой папа, зожав балгарскую сигаретку в каварной придатильской руке, поймал Ивонова в курилке и спрасил: «Нафига вот наш ректор, каторый в мотематеке петрит, как ящерица в сливах, и каторый ваще исторек партии по образаванию и образу мысле, паедит вместо тибя в Маскву? Штобы опазорить наш славней вус и абосрать твайо аткрытие? Щетаю, ты как малодой камунизд, должин паставить этат вопрос на сабрании нашева университецкаво актива». Ноивный Ивонов вазьми и ляпни на этам октиве всё, чему ноучил ево мой каварный атец, прахиндей и сукобляцкая сукоблять.
Мама вздахнула и на мновение прирвала свойу пичальную повисть. Словна призрак атца в ту минуту вылес изпад юпки очиредной студентки, капая смаской ис малодова и упругаво валгалища своей сексуальной жердвы, и зокружилсе по комнати в зларадном танцэ, напаминая маме загублиную моладость и утрачиные пирспективы. Патом мама взила сибя в руки и прадолжила. Атец знал, шта наш ректар – витеран войны, кантуженный гдета падо Ржевом до токой степени, шта еслип ни ево боивые нограды и портийный стаж, валяца бы ему в дурдоме на койке и щетать мух между рамоми. Мой деда с ректаром дружил и мама знала эту тайну. Стоило в пресуцтвии ректара пакретиковать скаску о крававой апасносте, исхадящей ис стран Запода, пашутить пра портийно-хозяйственый механизьм, каторый вотвот накроица мандой в пороксизме безсмысленой гонке за Омерекой или ляпнудь падобное интелигенцкое гамно, ректара наченало клинить, он пыталсо найте гранату, штобы падзорвать чево-нибуть или шажку, штобы у кавонибуть чевонибуть атчикрыжеть. Лицо ево делалось пахожим на синьор-памедор, а глоза набухале как две ужасне клубнике. Деда всё время баялся, что эти клубнике прямо таг и ибануд брызгаме, а патом и синьор-памедор ибанёт вслет за ними. В опщем, деда расказал маме, а та, на свою биду – маиму ацу.
Ризультат выступления Ивонов увидел ещо когда не зокончел гаворить. Он ищо чевота распинался пра величие савецкой ноуки, а ректар уже напыжил свой синьор-памидор так, что в аудетории паднялась тимпература. Патом ректар вижжал так, што у партактива забалели все до идинаво зуббы, стучавшие от ужоса в их ноучно-партийных ртах. Ректар вижжал и вежжал, патом упал и паполс, скребя жолтыме ноктями по ноучному паркету, аставляя за сабой жудкий слет из слюней, опилак и пракорябаных ноктями дорожек. Он даполс до кафедры, выпил жевой, видемо, вады, пришол в сибя и начал душидь малинькаво и худова Ивонова. Ноучная апщественость схвотила сваиво придвадителя, пытаязь убереч ево от человекаубийства, но витеран бился как танк на Курскай Дуге. Разумеица, корета скорай медецинской помащи увлекла ево в гозпиталь в предынсультном састоянии, не зная, што токие парни так прозто не дохнут, блогодоря ваеной зокалке.
Наутро, мой каварный атец падбил Ивонова написадь маляву аж в целый апком партии о нипадабающем поведении ректара, а сам следом написал маляву тудажэ, что Ивонов от пиренаприжения ибанулся по всей башне, нопал на витерана войны и пыталсе задушидь ево перет литсом опарафиневших от такова биспредела калег па вузу.
Канешна, весь партоктив универсетета впрягся не за Ивонова, патамушта такой яркей геней мазолил им всем патслеповытае бальшевисские глоза, каторые сроду ни адной тиоремы после школы не щупале. Услышив страшную скаску, сачинёную маим папой, котрый могбе стать лутшим сцинаристом Галивуда, октив всей сваей бизвольной массой броселся на зощиту ректара. Ивонова зобрали на следующей день прямо с крыльца уневера. Деда рассказывал маме, шта ректар хароводился с вторым сикретарём апкома коммунистической партеи Савецкаво Саюза, а это премерно то же, шта быть племяником госпаду нашему, спосителю иесусухристу. Абежать таких плимянеков нихарошо, шта Иванову панятно объяснили в дурдоме. Причом, объисняли иму эту нехитрою истену не адин гот и ни два.
Када он асвободился от смирительных пут и благатворных иниекций сульфы во все мяхкие места сваево безумнаво тела, мама нипомнила. Но зато помнила тоддень, када впирвые встретила ево после дурдома. Ивонов шол в фуфайки, наброшеной на голае тело, как бамжара, ево некагда умная галова была укрыта ат маросящева осениво дошдя мохровым палотенцем, словно он стал сихкомъ и обищал неснимать тюрбанъ. Мама гаворила, шта ни в студенчисве, ни после Ивонов ваще не пил, паскоку абещал сибе небухать ищо в той забулдыжной диревне, где все, кроме нево и ево засратых и пожеваных оводаме коров, передохли от нечистой сивушнай барматухи. Аднако после дурдома начал квасеть, как чимпион мира по алкашизму.
Удевительна, что Ивонов, расставшысь с абычным чилавеческим рассутком после многалетнех пытак, сохранил здаровье. Я видил, как он, напремер, помагал какому-та саседу грузидь мешки с цоментом. Чисто хватал мишок подмышку и бижал на третий эташ, как спайдермен, такойжэ шустрэй и худой.