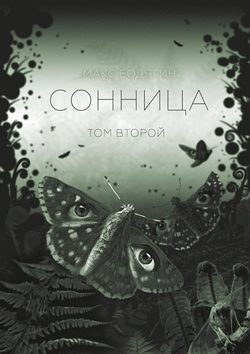Читать книгу Сонница. Том второй - Макс Бодягин - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть пятая
Лиля
ОглавлениеДень десятый.
Пятница, 26 марта.
04:36
Текст Макоеда, неправильный, словно нарочно измаранный подростковыми слезами, изжёванный, нервный, оглушил меня. Я проглотил его на одном дыхании. Потом перечёл ещё несколько раз, снова и снова погружаясь в прошлое. Я сижу в отцовской комнате, окружённый запахами моего детства, обняв папину подушку, вдыхая знакомый с младенчества табачный след, смешанный с крепчайшим кофе и вижу, как призраки минувшего один за другим встают передо мной.
Я так долго прятал их. Мысленно задёргивал плотными портьерами, не пропускавшими свет, который мог бы сделать их очертания слишком реальными. Закрывал бронированные многослойные двери, запирал на сорок тяжёлых замков, опускал жалюзи, выключал свет и стирал пыльной тряпкой всё, что проступало на поверхности сознания.
Господи. Как тяжело. Как же мне тяжело. Я говорю с диваном, с подушками, с тёмным шкафом, где до сих пор висят Его рубашки. Как же я хочу, чтобы Ты снова взял меня за руку и строго сказал, всё пройдёт, малыш, пройдёт и это. Почему? Почему Ты умер так рано, папа? Почему именно тогда, когда ты так мне нужен? Почему ты больше не споёшь мне колыбельную своим прокуренным голосом? What a wonderful world, ты пел её с интонациями Армстронга, а я просил тебя не портить голос, а ты смеялся. И я смеялся просто от того, что ты был рядом. А сейчас… Я сорокалетний дурак без семьи, без друзей, без будущего, повисший между демонами прошлого и пугающими духами будущего. Я сижу, словно со снятой кожей и чувствую сводящее с ума дыхание весны, слышу каждый её безумный шепоток, толкающий меня в чёрную пасть, где тускло зеленеют нечистые клыки.
Я боюсь спать. Я боюсь, что всё пережитое приснится мне заново. Я боюсь, что не проснусь в своём уме. Мне нужно за что-то держаться. Ухватиться за что-нибудь прочное. Но ничего нет. Ничего не осталось. Ничего.
День десятый.
Пятница, 26 марта.
17:07
Утром меня разбудил настойчивый писк смартфона. Я еле продрал глаза. Оказалось, что я лежу поперёк отцовского дивана, прижав к груди его подушку. Я спал всего часа два-три, не больше. Ноги, которые так и остались стоять на полу, вдетыми в тапки, чудовищно затекли и казались совершенно чужими. Часы показывали половину двенадцатого.
> Вы не спите? Это Лиля.
<Нет, привет. Уже не сплю.
> Можно, я приеду?
> Вы мне очень нужны.
<Ты уверена, что это хорошая идея?
> Ваще не уверена. Я вам не нравлюсь?
<Очень нравишься. Но ты ведь ребёнок.
> Не говорите так, вы меня обижаете.
> У меня есть один секрет.
<Ты хочешь сказать, что ты на самом деле – мальчик?
> Возможно. Но если я не приеду, вы никогда об этом не узнаете.
Господи. «Не делай этого, Кромм, не делай этого», – прошептал я. Но руки сами набрали следующую смс-ку:
> Приезжай. Но чур без глупостей.
<Хорошо.
Стук в дверь раздался почти сразу. «Инга, только вот не ты сейчас», – пробормотал я и, пытаясь на ходу придумать причину, по которой мог бы не впустить гостью, осторожно заглянул в глазок, сразу показавшийся широким, как иллюминатор трансатлантического лайнера. Лиля стояла за дверью. Я прижался лбом к холодному дермантину, обивавшему дверь. Лицо горело. Лиля тихо постучала снова. Я открыл спустя примерно миллион лет, миллион взрывов солнц и затухания вселенных.
– Здравствуйте, – сказал оленёнок, обжигая меня чёрным пламенем. Ресницы мои обуглились и струйками пепла стекли в глаза, защипав под веками.
– Привет.
– Я могу войти?
– Конечно.
Тут я заметил, что стою в одних джинсах.
– Какой красивый дракон, – сказала Лиля, проводя пальцем по татуировке на моей груди. По дрожащей от напряжения, сжавшейся от судороги мышце. По сердцу побежала глубокая царапина, повторяющая движение лилиного коготка.
– Это я как-то в Майами сделал.
– А это?
– В Амстере. В смысле, в Амстердаме.
– Я поняла, я была там как-то.
Мы молчали. Она сняла туфли и сразу стала ниже.
– Бабушка говорила мне, что когда женщина снимает каблуки, то сходит с пьедестала, – сказала Лиля, краснея.
– Тогда зачем ты сняла их?
– Не хочу быть выше вас.
Снова пауза. Лиля не отводила взгляд.
– Знаете, какой у меня секрет?
– Нет.
– А хотите узнать?
– Да. Очень.
Она обняла меня и, слегка приподнявшись на цыпочках, шепнула прямо в ухо: «У меня никогда не было мужчины. Меня никогда ещё никто не целовал так, как вчера». Она прижалась ко мне всем телом и её нежная птичья дрожь проникла вглубь моей груди, заставляя каждый волосок трепетать в унисон с её сильным девичьим телом, гибким-гибким, как стебелёк вьюнка. Я зарылся носом в её волосы и спросил:
– Что ты делаешь?
– Я очень хочу этого, понимаете?
– Чего, милая?
– Вы понимаете, я знаю.
– Ты…
– Я знаю, что вы скажете, – перебила меня Лиля, приложив палец к моим губам. – Но я не ребёнок. Вы пока не видите во мне женщину, но я женщина. Я уже взрослая женщина и я хочу вас, как женщина. Я очень этого хочу. Больше жизни.
– Мы не можем этого сделать, Лиля.
Она отслонилась, посмотрела мне в глаза и устало сказала:
– Хорошо. Не можем, так не можем. У вас есть чай?
Есть ли у меня чай? Есть ли у меня чай? Есть ли у меня что-нибудь человеческое? Съестное? Сладкое? Есть ли у меня шоколадное суфле? Или мороженое? Молочный коктейль? Трюфеля? Круассаны? Тьфу… Чай. Чай-чай-чай-чай-чай, его же всегда как говна, вечно весь пол в этих чёрных кусочках, этих свёрнутых трупиках-листочках, где же банка, где же он? Аллилуйя, вот же есть молочный улун, Инга принесла, типа полезно.
– Улан? Тьфу. Улун? – я быстро сделал умное лицо.
– Не, с этим к маме. Хотя, если больше ничего нет, я могу и улун.
Она сидела на краешке стула, обняв себя руками, обвив себя в восемь раз этими змеистыми смуглыми руками.
– А где твои ногти?
– Нарощенные? Я сняла. Я заметила, как вы на них смотрели.
– Как? Нормальные ногти.
– Не врите, у вас плохо получается, – засмеялась Лиля. – У вас было такое лицо, будто у меня жаба в руках. Или даже не жаба, а чего похуже.
– У тебя очень красивые пальцы.
– Спасибо, – ответила она и запунцовела.
О, а круассаны-то действительно есть! Господи, благослови мою нелюбовь к сладкому, спасибо-спасибо-спасибо тебе, меднокожая Ошун, мамаэ Ошун папаи огун бейра мap, сбереги меня от ошибки, прекрасноволосая, благословенно твоё чрево.
– Тебе круассаны с шоколадом или джемом?
Лиля посмотрела на круассаны пустым взглядом, встала со стула, подняла руки и вынула шпильки из гладкой, словно нарисованной причёски. И поцеловала меня. Я перестал дышать. Или не перестал. Я не помню.
Я помню, как взял её лицо в ладони. Я помню, как всмотрелся в эти чернющие глаза с голубыми белками. Я помню как боялся увидеть там… Подвох? Да, подвох. Обман, сомнение, что угодно. Я помню, как увидел там только одно: химически чистое желание, вибрирующие обсидиановые звёзды, счастье и страх, что это счастье сейчас прервётся.
И тогда я ответил на этот поцелуй по-настоящему. «Ещё», шепнула она, когда я поднялся на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха, и я сделал ещё. И ещё. И ещё. И ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё. И потом ещё.
Де жа вю. Я уже видел это. Эта комната видела это. Этот диван видел это. Эти шторы видели это. Этот ковёр видел это. Этот шкаф видел это. Эти хрустальные бокалы видели это. Эти книги видели это. Это окно видело это. Этот потолок видел это. Это уже было двадцать пять лет назад. Девушка сняла одежду. Аккуратно разглаживая складки. Аккуратно складывая ткань по шву. Аккуратно вешая всё снятое на спинку стула ровно в том же порядке, в котором двадцать пять лет назад другая девушка складывала другие джинсы, другую рубашку, другую комбинацию, другой лифчик. Она легла. Оленёнок.
Я сбросил джинсы. Алафия, Ошун. Даруй моей крови жар. Святая Эрзули, клянусь жертвовать тебе дары богатые, только не дай этому огоньку погаснуть, sancta mater dolorosa, мне это снится-снится-снится.
Лиля сняла трусики и сказала:
– Я ничего не умею.
– Всё будет хорошо.
– Я знаю. Я вам верю.
Её тело… Господи, как прекрасна юная весна с её дрожащими от росы бутонами, готовыми раскрыться каждую секунду. Лиля лежала там же, где двадцать пять лет назад лежала Ия, в той же позе, до мелочей повторяя её очертания. Только цвет волос и кожи различался: Ия светилась медным пламенем, а Лиля растеклась топлёной карамелью.
Я сойду с ума.
– У вас ведь есть презерватив? – спросила Лиля и покраснела.
– Да, укройся, я сейчас принесу.
Нет, не сойду с ума. Я уже рехнулся. Судорожно шаря по шкафчикам в поисках проклятой резинки, я понял, что реальность окончательно уплывает от меня, прошлое и настоящее наслаиваются друг на друга так, что их невозможно разлепить. Да где же этот ёбаный гандон? Он ведь должен быть где-то тут? С Ингой мы ими не пользовались, я даже не спрашивал, почему. Просто не пользовались и всё. А если у Инги какая-нибудь скрытая инфекция? Только не хватало сейчас заехать в бедную девочку с таким «подарком»… Где же эта хуйня, блядь? Так, а я-то вообще здоров? Я последний раз проверялся ещё до поездки в Казахстан, но с другой стороны, до Инги у меня не было секса сколько? Даже не помню, сколько именно. Если у Инги всё в порядке, значит, я должен быть здоров. Да где же.. Вот! Наконец-то.
Я вышел из ванной с серебристым квадратиком в руке. Лиля лежала на животе, подперев голову руками и болтала в воздухе стопами в розовых полосатых носках. Детских носках. Детских. Что ты делаешь, Кромм? Что? Ты? Делаешь?!
Лиля встала на диване, взяла моё лицо в свои руки, наклонилась, прижалась лбом к моему лбу и тихонько замычала, повторяя ту игру в кафе. Я замычал в унисон с нею, растворяясь в этом звуке, смывающем все тревоги и страхи, чувствуя лишь как мягко лилины вороные волосы ласкают мои пальцы. Девушка отстранилась от меня и легла навзничь. Я попытался укрыть своего боевого коня прозрачной резиновой попонкой, но меня ожидал сюрприз: мой верный помощник попятился назад, детские носки его совершенно не возбуждали, а вовсе даже наоборот. К счастью, Лиля действительно ничего не понимала в происходящем, лишь зачаровано смотрела на то, как там всё устроено у взрослых мужчин. Через какое-то время (примерно через тринадцать миллиардов лет, как мне показалось) он смилостивился и восстал настолько, что скользкая желтоватая мембрана всё же налезла на его стеснительное розовое навершие.
Я поглядел в лилины глаза. Она смотрела доверчиво и открыто, но стоило мне лишь слегка войти, нет, ещё даже не войти в неё, лишь легонько постучать в эти дивные врата, как она пискнула так удивлённо, будто бы это было не её тело. Я было сдал чуть назад, но она крепко сжала мои бёдра и скорее выдохнула, чем сказала – ещё. Я снова подался вперёд, глядя как угольно-чёрная радужка девушки закатывается вверх, подставляя мне белок, иссиня-голубой, словно гладкая поверхность варёного яичка. Лиля громко закричала и рванулась мне навстречу, стукнувшись своим выбритым лобком о мои кучерявые заросли, прижалась ко мне и замерла. Малейшее движение выбивало из неё птичий жалобный крик, однако лилино лицо говорило, что скорбный тон в этой песне лжёт. Это не был реквием, это был гимн. Она слабо улыбалась и… Выражение её красивого лица стало совершенно неописуемым, чувства сменялись одно за другим, словно пузырьки, когда дождь танцует на озерной глади.
Я с усилием вышел из неё и вернулся снова, чувствуя упругое сопротивление этого чудесного тела. «Люблю», выдохнула девушка.
Когда всё закончилось… Когда? Действительно, когда? Время утратило смысл. Лиля полулежала на боку, облокотившись на подушку и рисовала на своём шелковистом тёмном животике смешные закаляки, соединяя жемчужные капли спермы в один большой иероглиф. Она поднесла палец к носу, потянула в себя воздух и сказала:
– Я думала, будет больнее. Тебе хорошо?
– Очень, – честно ответил я, с блаженством ощущая в голове звенящую пустоту.
– Только я не умею тебя ласкать. Ты ведь мне потом всё-всё покажешь? Ой, смотри, я носки забыла снять, дура какая, да?
Лиля засмеялась и пошевелила пальчиками, розовые полоски изогнулись морскими волнами и успокоились. По моему сердцу пробежала такая же морская волна и продолжала, сука, ходить кругами, всё никак не утихомириваясь.
– Ты не дура. Кстати, я никогда не видел такой красавицы. Ни в Бразилии, ни в Аргентине, ни в Венесуэле, ни на пляжах Копакабаны, ни в районе Сан-Франциско Бэй, ни на Майами-бич, нигде.
– Самые красивые женщины живут в России.
– Теперь я это вижу. Я могу пялиться на тебя бесконечно.
– Так пялься, – засмеялась Лиля, вскочила с дивана и медленно закружилась, чтобы я смог рассмотреть её, как следует.
Она довальсировала до рабочего стола и внезапно остановилась. Взяла со стола исчёрканный лист бумаги и задумчиво спросила:
– Это ты нарисовал?
Я подошёл к ней. И замер. Стол сплошным ковром покрывали исчёрканные листки, на которых раз за разом кто-то (да не кто-то, а я в беспамятстве) пытался нарисовать амулет, о котором писал Макоед, потом в бешенстве зачёркивал набросок и принимался за следующий. Амулет… Проклятый амулет!
– Да не так же, – с лёгкой досадой сказала Лиля, взяла со стола огрызок карандаша и уверенными штрихами набросала совершенно точный рисунок амулета, который Пашка давным-давно привёз из Китая. – Иероглифы я не помню, а вот орнамент помню прекрасненько. Иероглифы вот тут, я вместо них вот так квадратиков наделаю.
– Мой оленёнок, моя сладкая Бэмби, скажи мне, откуда ты знаешь, что это за штука?
– Я тоже хотела тебя об этом спросить, потому что думала, что больше такой штуки ни у кого нет. Её, между прочим, даже не каждый в руки может взять, – сказала Лиля, понизив голос. Потом наклонилась к моему уху и добавила совсем шёпотом, – Потому что она кусается. Щиплется, будто током. Сильнее, чем мой лечебный браслет.
– Лиля, а эта штука всё ещё у тебя?
– Нет, что ты. Я б с ума сошла, если бы она у меня осталась, – беспечно улыбнулась Лиля. – А, ты её у этого противного антиквара видел, да? Понравилась? Она красивая, если её руками не трогать.
– У какого антиквара?
– Ну мерзкий такой, с мёртвыми глазами.
– Нет, солнышко, я видел этот амулет лет двадцать тому назад. А ты его где взяла?
– У мамы стащила, – вздохнула девушка.
И тут все кусочки паззла сошлись воедино.
Я только-только хотел спросить Лилю об амулете, чтобы подтвердить свои предположения, но её проклятый айфон вдруг зачирикал, заморгал, завибрировал и мне снова захотелось расколотить его. Лиля глянула на экран, сделала страшные глаза и прижала палец к губам.
– Да, мама, – ответила она в трубку демонстративно трезвым тоном.
Я сел на диван и начал натягивать джинсы, но вредная Лиля с ехидной улыбкой наступила на волочащуюся по полу штанину, не давая мне одеться как следует.
– Я забыла совсем… Мам, мы к Ленке Гречишниковой поехали, она попросила помочь, у неё же художественные промыслы… Мама, она одна не справлялась, там ещё надо было на подрамник холст натягивать… Большой, да… Нет, я не могу дать ей трубку, она уже разговаривает… Нет, мам, я всё равно уже такси вызвала… Как шесть? Когда шесть?
Лиля сделала большие глаза и показала пальцем на запястье. Я включил свой смартфон и показал ей светящийся экранчик: часы показывали половину пятого.
– Мама, перестань меня дурачить, ещё пяти нет… Перестань нервничать, я уже выхожу из подъезда… Всё, я захожу в лифт, связь сейчас прервётся, пока! – и она бросила трубку.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Не обращай внимания, – ответила Лиля. – Мама всегда нервничает, когда ей кажется, что она утратила контроль за неразумной дочерью. А поскольку это происходит практически постоянно с моих тринадцати лет, то… Все уже привыкли.
Она опустилась на колени и стащила с меня джинсы, гладя по груди, по плечам, по лицу.
– Я хочу ещё, – сказала она, глядя снизу вверх.
Я подумал о том, что вечером, как пить дать, приедет её мать и мы снова будем устраивать весь этот сексуально-напряжённый бедлам. Эта мысль пришлась совершенно не к месту, но зато была вполне реальной. Мне нужно было оставить Инге хоть что-нибудь.
– У меня кончились презервативы, моё счастье, – ответил я.
– Если ты будешь осторожен, мы можем как-нибудь так, – покраснев, сказала Лиля.
– «Как-нибудь так» сейчас небезопасно для тебя, мой оленёнок.
Лиля встала, молча оделась, одним движением связала свои чёрные волосы в густой пучок, потом нагнулась ко мне, легко поцеловала и шепнула:
– Придётся мне тогда как-то справляться вечером самой.
И выпорхнула из комнаты. Я вошел в коридор, чтобы проводить её и переспросил:
– «Самой»?
– А ты полагал, девочки этого не делают? – подмигнула Лиля, легко вдевая ногу в высоченную туфлю. – Ты слишком нас хорошо о нас думаешь.
– Подожди, я вызову тебе такси…
– Я уже, – улыбнулась Лиля и показала экран айфона, – Программа же есть специальная.
Она открыла засов, потом повернулась и вдруг бросилась мне на шею, целуя в глаза, в нос, в губы, в щёки, снова в глаза, шепнула: «Я действительно влюблена в вас, Виктор Рейнгольдович» и растворилась в сумраке лестничной клетки. Только цокот её каблуков рассыпанным горохом метался по ступеням.
Я подошёл к окну. Такси с жёлтой полосой по борту уже удалялось от подъезда, оставляя в снежной каше две широких сизых полосы. Лиля оглянулась в стекло заднего вида и припечатала к нему ладошку. В ответ я тоже приложил свою ладонь к оконному стеклу. Такси резко затормозило и тут же раздался звонок моего «блэкберри». Лиля вышла из машины, держа трубку возле уха.
– Да? – сказал я, глядя на её тонкий тёмный силуэт, словно процарапанный на нечистом снегу двора, пропитанном голубоватой весенней влагой.
– Ты очень вкусно пахнешь, – сказала Лиля.
– Ты тоже.
– Я позвоню.
– Я буду ждать.
Она снова села в автомобиль и укатила. А я оделся и поехал в ближайшую платную клинику, чтобы сдать экспресс-анализ на предмет «можем ли мы как-нибудь так», чувствуя себя при этом полным мудаком.
День десятый.
Пятница, 26 марта.
23:55
Сижу, смотрю на спящую Ингу и пытаюсь переварить её рассказ. Я только-только успел вернуться из клиники, захватив по дороге немного продуктов, как она уже стучала в дверь. Удивительно, что за десять минут до её прихода я успел собрать все наброски амулета, оставшиеся на столе, взять самый сносный из них и, глядя, на лилин рисунок, подправить его до узнаваемых очертаний.
Мой, кгхм, «нефритовый стебель» при встрече с Ингой вёл себя крайне странно. Во-первых, я до сих пор ощущал крайне неприятное жжение после посещения улыбчивой дородной врачицы, называвшей себя «опытный специалист-андролог». Её милая, с ямочками улыбка оказалась всего лишь смягчающей прелюдией к довольно безжалостному ковырянию в канале моего ствола пластиковой щёточкой, в мгновение ока вынувшей из меня дух. Как я не грохнулся навзничь без сознания, понятия не имею. Это была подстава со стороны моего маленького друга, который при словах «Обнажите, пожалуйста, головку» вдруг горделиво выпрямился во весь рост, как бы возвещая городу и миру о включении режима повышенной боеготовности. М-да. Дальнейшие несколько минут пребывания в в кабинете остались скрытыми пеленой тумана. Было больно.
Далее, несмотря на отвратительное чувство дискомфорта, наглый орган, за последние сутки точно захвативший все ментальные и физические ресурсы тела, которое я привык обычно считать своим, начал делать подмахивающие движения в сторону любого женского силуэта. А уж когда он почуял запах ингиных духов, то просто озверел и чуть не разорвал штаны. Пришлось овладеть дамой, даже не здороваясь и не раздевая её. Помню лишь, что я совершенно по-стахановски долбился в её гостеприимные, постепенно намокающие атласные дверцы, до синяков сжимая ингины бёдра, словно пиццеола, разминающий тесто. Её щедрая попа, изрядно покрасневшая от оплеух, которыми я подгонял Ингу на пути к пику всей истории, напоминала свежеиспечённую шанежку. Слово «шанежка» смешило, и я, вроде уже готовый к завершению, против воли улыбался и эта треклятая улыбка сбивала меня с настроя. Я видел отражение Инги в позеленевшем по краям зеркале, её размазанную помаду, потёкшую тушь и совершенно растрепавшуюся укладку, и ловил себя на мысли, что она мне ужасно нравится. Почему я раньше не считал её по-настоящему красивой?
«Нет-нет-нет, только не в меня и не на одежду», – прохрипела гостья, а я в этот момент смотрел на потемневшую гравюру, висящую над трюмо, и покачивавшуюся в такт ударам моих чресел, и понимал, что никак не могу закончить дело. Инга сделала это первой, после чего мы отпраздновали её шумный оргазм бутылкой грузинского коньяка.
В это же время, охамевший путчист, полностью подчинивший себе мозг, и не подумал успокаиваться, продолжая алеть победным гордым флагом, готовый сопротивляться любым ветрам и только раззадориваемый жжением изнутри. «Господи, откуда в тебе столько сил», – спросила Инга, целуя его. «Нет-нет-нет», – сказал я, чувствуя её губы и легко отводя лицо женщины от себя. «Давай сначала напьёмся, как следует» и отхлебнув изрядную порцию коньяка прямо из бутылки, влил его в покорный ингин рот.
– Ты чувствуешь, как он жжёт? – выдал я фразу, достойную эротического фильма.
– Твой язык всегда жжёт меня, с коньяком или без, – сказала Инга.
Минут за сорок мне удалось влить в неё почти бутылку, скармливая на закуску крохотные кусочки груш, яблок и шоколада. На пути к окончательной утрате ею воли я умудрился ещё два раза довести Ингу до оргазма, последний из которых больше походил на общение сантеро с вселившимися в него духами, на какой-то момент мне показалось, что Инга сошла с ума. Sancta Mater Эрзули Фреда, спасибо тебе за твои дары! Клянусь принести тебе богатые жертвы, как только снова окажусь дома, в Байе! Камни и золото, сладкий ром и патоку, всё, что ты любишь, брошу к твоим благородным ногам, найму лучших сантеро, каких найду. Только помоги.