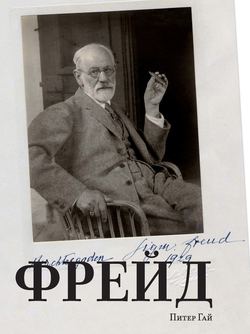Читать книгу Фрейд - Питер Гай - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Основы
1856–1905
Глава первая
Жажда знаний
Источники воспоминаний
ОглавлениеЗигмунд Фрейд, великий разгадыватель тайн человека, рос среди множества тайн и противоречий, поэтому возникший у него интерес к психоанализу вполне объясним. Он родился 6 мая 1856 года в маленьком моравском городке Фрайберге в еврейской семье, у Якоба Фрейда, не очень удачливого торговца тканями, и его жены Амалии. Имя, которое выбрал для него отец и записал в семейной Библии, – Сигизмунд Шломо – продержалось только до подросткового возраста. Фрейд никогда не использовал свое второе имя Шломо, данное в честь деда по отцу, и после экспериментов с именем Зигмунд в старших классах школы окончательно остановился на нем, когда в 1873 году[5] поступил в Венский университет.
В семейной Библии Фрейдов также записано, что Сигизмунд «принял еврейский завет» – другими словами, был обрезан – через неделю после рождения, 13 мая 1856 года. Это все, что нам достоверно известно. Бо2льшая часть остальных сведений не столь надежна. Фрейд считал, что ему «как будто бы известно», что его предки по отцовской линии долгое время жили на Рейне (в Кёльне), затем в XVI или XV веке гонения на евреев заставили их перебраться на восток, и в течение XIX столетия их дети продвигались в обратном направлении, из Литвы через Галицию в немецкоязычную Австрию. Здесь Фрейд полагался на семейное предание: однажды его отец случайно встретил секретаря еврейской общины Кёльна, который назвал ему всех их предков, живших в городе вплоть до XIV столетия. Эти свидетельства происхождения Фрейда вполне правдоподобны, но не очень надежны.
Разумеется, эмоциональное развитие мальчика определялось не столько задокументированными подробностями и семейными преданиями, сколько сложными семейными отношениями, разобраться в которых ему было очень трудно. В XIX веке запутанные семейные связи были весьма распространенным явлением. Люди часто умирали в молодом возрасте в результате болезней, а женщины еще и при родах, и зачастую вдовы и вдовцы быстро вступали в новый брак. Но загадки, с которыми столкнулся Фрейд, оказались намного сложнее обычных. В 1855 году Якобу Фрейду, женившемуся на Амалии Натансон – она стала не первой его супругой, – было 40 лет, на 20 лет больше, чем невесте. Два его сына от предыдущего брака – старший, Эммануил, уже женился и имел детей, а младший, Филипп, был холост – жили неподалеку. Эммануил оказался старше, чем юная симпатичная невеста, которую отец привез из Вены, а Филипп на год моложе. Не менее загадочным для Сигизмунда казалось то обстоятельство, что один из сыновей Эммануила, его первый товарищ по детским играм, был на год старше его, маленького дяди.
Фрейд вспоминал племянника Йона как неразлучного друга и «товарища в моих шалостях». Один из таких проступков (этот эпизод относился к самых ранним воспоминаниям Фрейда, которым он, оглядываясь назад, приписал эротическую эмоциональную окраску, в тот момент отсутствовавшую) он совершил в трехлетнем возрасте: Йон и Сигизмунд набросились на Паулину, сестру Йона, вместе с которой собирали цветы на лугу, и грубо отобрали у нее букет. Временами мальчики, вражда между которыми могла быть такой же сильной, как дружба, обращали агрессию друг на друга. Одна такая ссора, случившаяся, когда Фрейду еще не исполнилось двух лет, вошла в число семейных легенд. Однажды отец спросил Сигизмунда, почему он ударил Йона. Будущий основатель психоанализа, который говорил еще не очень хорошо, но уже мыслил логически, придумал себе убедительное оправдание: «Я побил его, потому что он побил меня».
Сложные семейные связи еще больше запутывало то обстоятельство, что, по мнению Фрейда, его красивая молодая мать гораздо больше подходила сводному брату Филиппу, чем отцу, с которым Амалия делила брачное ложе. В 1858 году, когда Сигизмунду не исполнилось и двух с половиной лет, эта проблема стала особенно острой: родилась его сестра Анна. По мнению Фрейда, именно в то время он понял, что маленькая сестренка появилась на свет из тела матери. Гораздо сложнее, по всей видимости, ему было выяснить, каким образом его сводный брат Филипп занял место отца в соперничестве за любовь матери. Неужели Филипп действительно подарил его матери эту малышку, ненавистного нового соперника? Все это сбивало с толку, а разобраться в происходящем почему-то казалось очень важным и одновременно опасным.
Подобного рода загадки из детства оставили осадок, который Фрейд подавлял на протяжении многих лет и вновь осознал лишь в конце 90-х годов XIX века при помощи анализа сновидений и напряженного «самоисследования». Его разум переполняли эти противоречия – молодая мать беременна от соперника, сводный брат каким-то загадочным образом стал товарищем матери, племянник старше его самого, а ласковый отец по возрасту годится ему в деды. Именно из этого личного опыта и будет соткана ткань психоаналитических теорий Фрейда.
Некоторые бросающиеся в глаза семейные реалии Фрейд не считал нужным подавлять. «Мои родители были евреями», – кратко сообщал он в изданном в 1925 году «Жизнеописании». Явно не одобряя единоверцев, которые искали защиты от антисемитизма в крещении, Фрейд прибавлял: «…и я также остался евреем»[6]. Это был иудаизм без религии. Якоб Фрейд не придерживался хасидских традиций своих предков: его бракосочетание с Амалией Натансон проходило по реформистскому обряду. Со временем он отказался практически от всех религиозных ритуалов, а Пурим и Пасху отмечал как семейные праздники. В 1930 году Фрейд вспоминал: «…отец позволял мне расти в полном неведении относительно всего, что связано с иудаизмом». Тем не менее стремившийся к ассимиляции Якоб Фрейд никогда не отрицал, что он еврей, и не стыдился этого. Дома он по-прежнему в назидание детям читал Тору на древнееврейском и говорил на священном языке, как вспоминал Фрейд, не хуже, чем на немецком, и даже лучше. Таким образом, Якоб создал в своем доме атмосферу, способствовавшую тому, что юный Сигизмунд серьезно увлекся «библейской историей», то есть Ветхим Заветом, в который он углубился, едва научившись читать.
Впрочем, в детстве Фрейда окружали не только евреи, и это вносило в картину жизни дополнительные сложности. Няня, которая заботилась о нем до двух с половиной лет, оказалась набожной католичкой. Мать Фрейда вспоминала, что это была пожилая, очень некрасивая, но умная женщина. Она без конца рассказывала своему подопечному благочестивые истории и таскала с собой в церковь. «Потом, – напоминала впоследствии Фрейду мать, – ты приходил домой и начинал проповедовать о деяниях Господа Всемогущего». Религией влияние няни не ограничивалось, хотя, насколько далеко она зашла, остается неясным: Фрейд намекал, что эта женщина была его первой учительницей в вопросах пола. С не по годам развитым маленьким мальчиком нянька была строга и требовательна, но, по словам Фрейда, это нисколько не уменьшало его любовь к ней.
Вскоре эта любовь закончилась, причем самым нелицеприятным образом: сразу после того, как на свет появилась сестра Фрейда Анна, его сводный брат Филипп обвинил няню в воровстве, и дело дошло до тюрьмы. Сигизмунд очень скучал по ней. Исчезновение няни, совпавшее с отсутствием матери, стало причиной туманных и неприятных воспоминаний, которые Фрейд сумел прояснить и объяснить лишь много лет спустя. Он вспоминал, что все время плакал и искал мать. Тогда Филипп открыл сундук – Kasten, как называли его в Австрии, – и показал, что его мать не заперли там. Это не утешило Сигизмунда. Он не успокоился, пока мать не появилась на пороге, красивая и стройная. Но почему Филипп показывал Сигизмунду пустой сундук, чтобы ребенок не плакал по матери? В 1897 году, в период интенсивного самоанализа, Фрейд нашел ответ на этот вопрос: когда он спросил своего сводного брата, куда подевалась няня, тот шутливо ответил, что ее eingekastelt – буквально «заперли в ящик», то есть упрятали в тюрьму. Совершенно очевидно, Фрейд боялся, что его мать тоже eingekastelt. Детское соперничество со старшим братом, который предположительно был виноват в том, что мать перестала быть стройной, такое же детское сексуальное любопытство насчет детей, появляющихся из женского тела, и печаль из-за разлуки с няней – все это волновало мальчика, слишком маленького, чтобы разобраться в запутанных связях, но уже достаточно большого, чтобы страдать. Та няня-католичка, старая и некрасивая, много значила для Фрейда, почти столько же, сколько молодая миловидная мать. Подобно тем личностям, которые будили его фантазию по прошествии многих лет – Леонардо, Моисей, не говоря уж о Эдипе, – маленький Фрейд был окружен любовью и заботой двух матерей.
Несмотря на бедность, Якоб и Амалия Фрейд старались дать маленькому сыну все самое лучшее. В 1856 году, когда родился Сигизмунд, семья снимала одну комнату в скромном доме. Во Фрайберге самым высоким зданием была изящная колокольня католического храма, знаменитая мелодичным звоном, – она возвышалась над несколькими солидными особняками и многочисленными более скромными домами жителей города. Помимо храма в число достопримечательностей входила красивая рыночная площадь, а также живописные окрестности с плодородными полями, густыми лесами и пологими холмами, над которыми вдали в мерцающем воздухе поднимались силуэты Карпатских гор. В конце 50-х годов XIX столетия в городе насчитывалось более 4500 жителей, среди которых было около 130 евреев. Фрейды жили в простом двухэтажном доме номер 117 по Шлосергассе. Их комната находилась над квартирой хозяина, кузнеца Зажика. Здесь, над кузницей, и родился Фрейд.
Семья Фрейд недолго оставалась во Фрайберге. В 1859 году они ненадолго поселились в Лейпциге, а год спустя переехали в Вену. По всей видимости, Фрейду было неприятно вспоминать о бедности своих отца и матери. В замаскированном автобиографическом отрывке, вставленном в одну из статей в 1899 году, он описывает себя как ребенка изначально вполне состоятельных родителей, которые достаточно комфортно жили в той провинциальной дыре. Эта гипербола служит слабым примером того, что Фрейд впоследствии назовет «семейным романом», широко распространенной тенденцией считать своих родителей более состоятельными или знаменитыми, чем они были в действительности, или даже придумывать себе известных мать и отца. Фрейд упрощал мотивы переезда семьи из Фрайберга и приукрашивал их жизнь в городе. «После катастрофы в отрасли, где был занят мой отец, – писал Фрейд, – он разорился». Якоб Фрейд не смог сохранить даже то малое, чем владел… Переезд в Вену не принес существенного облегчения, хотя финансовое положение семьи постепенно улучшалось. «Затем наступили тяжелые годы, – впоследствии признавался Фрейд. – Думаю, в них не было ничего, о чем стоит вспоминать».
Незавидное финансовое положение усугублялось плодовитостью Амалии. Якоб Фрейд и его жена прибыли в Вену с двумя детьми, Сигизмундом и Анной. Еще один сын, Юлиус, умер во Фрайберге в апреле 1858 года, в возрасте семи месяцев. Затем друг за другом с 1860-го по 1866-й на свет появились четыре сестры – Роза, Мария, Адольфина и Паулина – и младший брат Александр[7]. В 1865-м и начале 1866 года трудности последних лет дополнились обвинением, осуждением и заключением в тюрьму Иосифа Фрейда, брата Якоба, – за изготовление фальшивых денег. Катастрофа стала сильнейшим ударом для всей семьи. Фрейд не интересовался дядей Иосифом, который появлялся в его снах, но в «Толковании сновидений» вспоминал, что отец поседел буквально за несколько дней. Вероятно, к горю Якоба Фрейда примешивалась тревога: по некоторым свидетельствам, он и его старшие сыновья, эмигрировавшие в Манчестер, были вовлечены в махинации Иосифа.
Материальные трудности и позор семьи были не единственными причинами, по которым Фрейд не хотел вспоминать первые годы в Вене. Он скучал по Фрайбергу и особенно по его красивым окрестностям. «Я никогда не чувствовал себя в городе по-настоящему комфортно, – признавался он в 1899 году. – Теперь мне кажется, что я так и не преодолел тоску по прекрасным лесам моего дома, в которые (как свидетельствуют воспоминания той поры), едва умея ходить, я убегал от отца». В 1931-м мэр города Пршибор, как стал называться Фрайберг, вошедший после распада Австро-Венгерской империи в Чехословацкую Республику, торжественно открыл бронзовую табличку на доме, где родился Фрейд. Основатель психоанализа – ему было 75 лет – прислал благодарственное письмо, в котором кратко описал превратности своей судьбы и отметил один глубокий след, оставленный тем далеким прошлым: «Глубоко внутри меня, скрытый от всех, все еще живет счастливый ребенок из Фрайберга, первенец молодой матери, получивший свои неизгладимые впечатления от земли и воздуха тех мест». Это не пустые слова и не дань вежливости. Поэтичная риторика – «от земли и воздуха тех мест» – имеет особый смысл. Она исходит из самых глубоких слоев сознания Зигмунда Фрейда, свидетельствуя о так и не утоленной тоске по тем дням, когда он любил свою молодую, красивую мать и убегал от старого отца. Неудивительно, что Фрейд до конца жизни не смог преодолеть свое противоречивое отношение к Вене.
Сын Фрейда Мартин предположил, что часто повторявшиеся фразы отца о неприязни к Вене на самом деле были скрытым признанием в любви. Ведь характерная черта каждого истинного венца – находить удовольствие в отыскании недостатков своего обожаемого города. Еще одно подтверждение этой гипотезы можно увидеть в том, что Фрейд, по его собственным словам ненавидевший Вену, упорно отказывался ее покидать. У него были превосходный английский, обширные зарубежные связи и многочисленные приглашения поселиться за границей, но основатель психоанализа оставался в Вене до тех пор, пока это было возможно. «Ощущение торжества освобождения слишком сильно перемешано со скорбью, – писал он, уже очень старый человек, по приезде в Лондон в начале июня 1938 года, – поскольку отпущенный из тюрьмы все еще очень любит ее».
Очевидно, эта двойственность имела глубокие корни; как ни любил Фрейд Вену, город стал для него тюрьмой. Однако в его письмах нелюбовь к Вене чувствуется задолго до аншлюса Австрии нацистами. В них нет ни смущения, ни позы. «Я не стану тебе описывать, какое впечатление на меня произвела Вена, – писал Фрейд в 16-летнем возрасте своему другу Эмилю Флюсу, вернувшись из Фрайберга, – она мне отвратительна». Позже в письме из Берлина к своей невесте Марте Бернайс он признавался: «Вена меня угнетает, и притом более, чем это можно считать допустимым» – допустимым для него, имел в виду Фрейд. Собор Святого Стефана, доминировавший в городском пейзаже, был для него «отвратительной башней». Тем не менее Фрейд признавал, что за этими враждебными замечаниями кроется нечто важное, тщательно скрываемое. Его ненависть к Вене, полагал он, граничила с личной неприязнью. «В отличие от великана Антея моя сила увеличивается каждый раз, когда я отрываю ногу от земли родного города», – писал Фрейд. Вена всегда была для него ареной трудностей, повторяющихся неудач, длительного и ненавистного одиночества, неприятных инцидентов, связанных с антисемитизмом. Отпуск основатель психоанализа проводил в горах или в продолжительных походах по сельской местности, что тоже свидетельствует о его чувствах.
Этот «диагноз» в определенной степени парадоксален, ведь психоанализ – характерное порождение урбанизма, теория и практика, предназначенные для городской буржуазии. Сам Фрейд тоже принадлежал к категории типичных городских жителей, днем работая в консультации, а по вечерам в домашнем кабинете и ежедневно совершая прогулки по современной Вене, построенной в тот период, когда он был студентом и молодым практикующим врачом. Большинство комментаторов рассматривали психоанализ, а также его основателя не просто как городское, а как типично венское явление. Фрейд решительно возражал: когда французский психолог Пьер Жане предположил, что психоанализ мог появиться только в чувственной атмосфере Вены, он посчитал это злобной инсинуацией и антисемитским наветом. На самом деле Фрейд мог бы создать свои теории в любом городе, имеющем первоклассную медицинскую школу, достаточно большом и богатом, чтобы поставлять ему пациентов. Очевидно, Фрейд, никогда не забывавший приволье в окрестностях Фрайберга, не был деревенским жителем, заброшенным судьбой в тесный город. Но Вена, которую постепенно строил для себя Зигмунд Фрейд, не была Веной придворных балов, оперетты, кафе и художественных салонов. Эти ипостаси города почти не влияли на работу Фрейда. Случайно ли его невеста будет родом из Гамбурга, любимые ученики из Цюриха, Будапешта, Берлина, Лондона и еще более отдаленных мест, а его психологические теории сформируются в интеллектуальном мире, достаточно большом, чтобы включить в себя всю западную культуру?
Как бы то ни было, Фрейд обосновался именно в Вене и не покидал этот город. Источником дополнительных трудностей был для него отец. Неисправимый оптимист, по крайней мере внешне, Якоб Фрейд был мелким торговцем, не сумевшим приспособиться к окружающему миру, переживающему промышленную революцию. Он был милым человеком, щедрым, открытым для удовольствий. И твердо убежденным в необыкновенных талантах своего сына Сигизмунда. Как вспоминал его внук Мартин Фрейд, Якоба очень любила вся семья: он был ужасно мил с ними, маленькими, – приносил подарки и рассказывал увлекательные истории. Все относились к нему с огромным уважением. Но для сына Сигизмунда Якоб Фрейд являлся проблемой.
Не облегчала эмоциональную сторону жизни юному Фрейду также притягательная молодость и красота матери. Впоследствии он восстановит в памяти детский опыт, одну из тех «важных подробностей», которые ему удалось спасти от глубокой амнезии, охватывающей детские годы каждого человека. Воспоминание пришло к нему в октябре 1897 года, во время самоанализа, когда открытия относительно собственного подсознания обрушивались на него настоящим потоком, способным сбить с толку. Фрейд рассказывал своему близкому другу Вильгельму Флиссу, что в возрасте двух или двух с половиной лет у него пробудилось либидо по отношению matrem[8]. Это случилось ночью во время путешествия в поезде из Лейпцига в Вену, когда он «…несомненно мог видеть ее nudam[9]». Сразу за этим дразнящим воспоминанием пришло следующее – Фрейд вспомнил, как радовался смерти своего маленького брата Юлиуса, который родился через 17 месяцев после него, вспомнил собственные злобные желания и настоящую детскую ревность. Этот брат, а также племянник Фрейда Йон, годом старше его, «теперь определяют все невротическое, а также все глубокое, что присутствует во всех моих дружеских связях». В его воспоминаниях сталкиваются друг с другом любовь и ненависть, эти природные силы, которые сражаются с человеческой судьбой и которые так мощно проявились в зрелых работах Фрейда по психологии.
Иногда Зигмунд Фрейд совершает показательные ошибки, вспоминая детство. Вот одна из таких ошибок: когда он видел обнаженную мать, ему было почти четыре года, а не чуть больше двух – он был старше, сильнее и в большей степени способным к вуайеризму и открытому желанию, чем сознательно позволял себе, извлекая воспоминания о matrem nudam. Не менее показателен и тот факт, что Фрейд, даже в возрасте 41 года, будучи автором оригинальных исследований в запретных областях человеческой сексуальности, не мог заставить себя описать этот волнующий случай, не прибегая к спасительной латыни.
Какова бы ни была истинная природа того случая, именно любвеобильная, энергичная и властная мать в гораздо большей степени, чем милый, но несколько инертный отец, подготовила сына к жизни, наполненной бесстрашными исследованиями, приходящей и ускользающей славой, переменчивым успехом. Ее способность победить болезнь легких – младшая дочь Фрейда, Анна, говорила, что у бабушки был туберкулез, из-за которого она несколько раз проводила летние месяцы на курорте, – служит свидетельством жизненной силы Амалии. Фрейд так до конца и не разобрался в значении страстных подсознательных уз, которые связывали его с этой властной материнской фигурой. Значительную часть его пациентов составляли женщины, он много о них писал, однако всю свою жизнь любил повторять, что женщина для него осталась неизведанной страной. Вполне возможно, что подобная уклончивость отчасти объяснялась самозащитой.
Двойственные чувства Фрейда в отношении отца были спрятаны не так глубоко. Об этом свидетельствует еще один чрезвычайно важный эпизод из детства, связанный скорее с жалостью, чем с возбуждением. Это воспоминание одновременно беспокоило и восхищало Фрейда. «Мне было десять или двенадцать лет, когда отец начал брать меня с собою на прогулки и беседовать со мной о самых разных вещах. Так, однажды, желая показать мне, насколько мое время лучше, чем его, он сказал мне: «Когда я был молодым человеком, я ходил по субботам в том городе, где я родился, в праздничном пальто, с новой хорошей шляпой на голове. Вдруг ко мне подошел один христианин, сбил мне кулаком шляпу и закричал: «Жид, долой с тротуара!» – «Ну и что же ты сделал?» – «Я перешел на мостовую и поднял шляпу», – ответил отец»[10]. Такая покорность отца, как рассудительно и, возможно, несколько безжалостно вспоминал Фрейд, показалась ему, что называется, не так чтобы геройством. Неужели отец вовсе не был «большим сильным человеком»?
Уязвленный картиной, в которой трусливый иудей пресмыкается перед христианином, Фрейд стал мечтать о мести. Он отождествлял себя с великолепным и бесстрашным семитом Ганнибалом, который поклялся отомстить за Карфаген, невзирая на могущество римлян, и превратил древнего героя в символ «противоречия между живучестью еврейства и организацией католической церкви». Его никогда не увидят поднимающим шляпу из грязной канавы[11]. Таким был мальчик, который в 14-летнем возрасте декламировал монолог Брута в революционной для того времени пьесе Фридриха Шиллера «Разбойники». Со школьных лет он неизменно проявлял умение сдерживать гнев, независимость суждений, храбрость и уважение к своему еврейству – и все это превратилось в характере Фрейда в высшей степени индивидуальный, неразрушимый сплав.
Если сам Фрейд испытывал в отношении родителей сложные чувства, то их вера в него, казалось, была абсолютной. На 35-летие отец подарил ему Танах, еврейское Священное Писание, с надписью на древнееврейском языке: «Мой дорогой сын, тебе было всего семь лет, когда Бог призвал тебя на путь познания». Для Фрейдов счастливым предзнаменованием будущей славы сына стала его страсть к чтению. В «Толковании сновидений», ища объяснение одному из честолюбивых снов, Фрейд вспомнил историю, которую ему часто рассказывали в детстве: «При моем рождении какая-то старуха-крестьянка предсказала моей матери, что она подарила жизнь великому человеку». Фрейд цинично заметил: «Такие пророчества, должно быть, часто встречаются; существует так много полных надежд матерей и так много пожилых крестьянок или других старых женщин, власти которых на земле пришел конец, и поэтому они обратились к будущему. И делается это также не в ущерб пророчицам». Тем не менее его скептицизм был искренним лишь отчасти: Фрейд склонялся к тому, чтобы доверять благоприятным предсказаниям. И неоднократно отмечал, что атмосфера в доме, когда постоянно рассказывались и повторялись подобные истории, могла лишь способствовать его жажде славы.
Еще один случай, который Сигизмунд запомнил во всех подробностях, укрепил убежденность родителей в том, что они воспитывают гения. В 11 или 12 лет он сидел с отцом и матерью в ресторанчике на Пратере, знаменитом венском парке. Там от стола к столу ходил человек и за небольшую плату сочинял стихи на любую предложенную тему. «Родители послали меня пригласить импровизатора к нашему столу; он оказался благодарным посыльному. Прежде чем его успели попросить о чем-нибудь, он посвятил мне несколько рифм и считал в своем вдохновении вероятным, что я еще стану когда-нибудь министром». В либеральной атмосфере 60-х годов XIX века это пророчество казалось вполне возможным. Оглядываясь назад, Фрейд приписывает свое желание изучать юриспруденцию именно такого рода впечатлениям.
Совершенно естественно, что многообещающего молодого человека объявили надеждой семьи. Сестра Анна свидетельствует, что у него всегда была отдельная комната, каким бы стесненным ни было материальное положение родителей. Переехав в Вену, Фрейды поселились в традиционном еврейском районе Леопольдштадт, протянувшемся вдоль северо-восточной окраины города. Когда-то здесь располагалось венское гетто, которое вбирало в себя постоянно увеличивающийся поток еврейских иммигрантов из Восточной Европы, и теперь эти кварталы снова быстро превращались в некое подобие гетто. Приблизительно половина из 15000 евреев, живших в Вене в 1860 году, сосредоточилась именно в этом районе. Леопольдштадт нельзя было назвать трущобами. Его выбирали для жительства многие состоятельные евреи, однако большинство теснилось в перенаселенных, убогих кварталах. Фрейды принадлежали к этому большинству.
Через какое-то время финансовое положение Якоба Фрейда несколько улучшилось, скорее всего благодаря помощи двух старших сыновей, более удачливых, чем он сам. Дела Эммануила и Филиппа после переезда в Манчестер резко пошли в гору. Но даже после того, как Якоб смог позволить себе снять более просторное жилье и нанять слуг, оплачивать детям занятия живописью, а также походы в Пратер, семья все равно была вынуждена довольствоваться шестью комнатами. Эта квартира, в которую они переехали в 1875 году, когда Сигизмунд учился в университете, вряд ли могла считаться роскошной для такой большой семьи. Младший сын Александр, пять сестер и их родители теснились в трех спальнях. И лишь у будущего основателя психоанализа был отдельный «кабинет», принадлежавший только ему, – длинная и узкая комната с окнами на улицу, все больше и больше загромождавшаяся книгами, единственной роскошью, доступной Фрейду в юношестве. Здесь он занимался, спал и зачастую ел в одиночестве, чтобы сэкономить время для чтения. Здесь же он принимал своих университетских друзей – товарищей по учебе, как называла их его сестра Анна, а не товарищей по развлечениям. Он был внимательным, но немного деспотичным братом, помогал сестрам и Александру с домашними заданиями и рассказывал об окружающем мире: склонность к поучениям обнаружилась у него еще в школьные годы. Сигизмунд также взял на себя роль довольно педантичного цензора. По воспоминаниям Анны, когда ей было 15 лет, он не одобрял, что она читает Бальзака и Дюма, считая их сомнительными авторами.
В семье спокойно воспринимали юношеский максимализм – диктат Сигизмунда – и поддерживали в нем ощущение исключительности. Если его потребности вступали в противоречие с потребностями Анны или остальных, предпочтение без всяких вопросов отдавалось ему. Когда Сигизмунд пожаловался, что шум от уроков игры на пианино, которые брала Анна, мешает ему заниматься, инструмент тут же исчез из дома. Мало у кого из семей среднего класса Центральной Европы не было пианино, но эта жертва меркла перед блестящей карьерой, которую Фрейды прочили прилежному и энергичному Сигизмунду.
В Вене времен юности Фрейда, несмотря на ущемления в правах, которым все еще подвергались австрийские евреи, честолюбивые устремления талантливых еврейских юношей вовсе не были утопией. После 1848 года, когда по всему континенту прокатились революции и на престол взошел император Франц Иосиф, рыхлая многонациональная империя Габсбургов стала с трудом поворачиваться к реформам. Она и раньше сопротивлялась, как могла, но ее силой тащили в XIX век. Начиная с 1860-го, того самого года, когда Фрейды поселились в венском районе Леопольдштадт, череда указов, призванных укрепить традиционную форму правления, стала приводить к неожиданным последствиям, либерализации государства. По мере того как избирательные кампании становились все более яростными, освобожденная пресса и зарождающиеся политические партии, боровшиеся за власть, приучали австрийцев к рискованной риторике публичных дебатов. Новый парламент, рейхсрат, которому изначально отводились лишь совещательные функции, превратился в настоящий законодательный орган власти, инициирующий принятие законов и голосующий за бюджет. Но, несмотря на эти смелые эксперименты с представительным правлением, в политической жизни участвовало меньшинство. Даже избирательные реформы 1873 года, восхвалявшиеся как огромный шаг вперед, сохранили высокий барьер имущественного ценза: выбор народных представителей остался привилегией всего 6 процентов взрослых мужчин. Другими словами, ограниченную монархию сменил ограниченный конституционный строй.
Правда, в конечном счете впечатляющие перемены оказались не только косметическими. В эпоху фанатичного национализма режиму Габсбургов с трудом удавалось примирять противоположные политические интересы и враждующие этнические группы. Любые решения, принимаемые австрийскими политиками, могли быть в лучшем случае временными. За два десятилетия, как точно подметила историк Илза Бареа, не менее восьми австрийских конституций было принято, отозвано и исправлено в процессе экспериментов с федерализмом и централизацией, прямым и непрямым избирательным правом, монархией и представительным правлением. Показной блеск монархии и высшего общества не мог скрыть общее банкротство идей и тупик, в который завели страну непримиримые силы. Безрассудные войны и крайне неудачные дипломатические инициативы привлекали внимание общества не меньше, чем прогрессивное социальное законодательство.
Тем не менее какое-то время положение в политике, экономике и общественных отношениях действительно улучшалось. В конце 60-х годов XIX столетия в правительстве империи преобладали цивилизованные, преданные своему делу политики и чиновники, выходцы из среднего класса – их не зря называли буржуазным кабинетом министров. При этом Bürgerministerium и его преемниках правительство передало вопросы заключения брака и образования светским властям, разрешило межконфессиональные браки и приняло гуманный Уголовный кодекс. Параллельно с введением этих зачатков либерализма быстрыми темпами развивались австрийская торговля, банковское дело, промышленность, транспорт и связь. Промышленная революция пришла в Австрию – с опозданием, но все же пришла. Однако 9 мая 1873 года – в «черную пятницу» – все это было поставлено под сомнение обвалом фондового рынка. Это отбросило тень на многие достижения страны. Массовые банкротства и закрытие банков разорили неосторожных спекулянтов, невезучих вкладчиков, неудачливых бизнесменов, ремесленников и фермеров. «Австрийцы, – писал в июне один наблюдательный гость из Германии, – потеряли все свои деньги или, скорее, обнаружили, что у них никогда не было денег».
Столкнувшись с внезапной потерей сбережений или инвестиций, австрийцы начали искать козла отпущения и скатились до вспышек антисемитизма. Журналисты обвиняли в коллапсе «махинации» еврейских банкиров, популярные карикатуристы изображали крючконосых и курчавых брокеров, бурно жестикулировавших перед Венской фондовой биржей[12]. И совсем не случайно, что Фрейд потом датировал осознание своего еврейства именно годами учебы в университете, куда он поступил осенью 1873 года[13]. Истеричный тон антисемитской пропаганды был не единственной угрозой в экстремистской политической риторике того времени. Атмосфера уже наэлектризовалась яростной фракционной борьбой, зарождающимся самосознанием рабочего класса и неутихающим недовольством национальных меньшинств – чехов, поляков и всех остальных народов империи. Хрупкие достижения 60-х годов оказались под угрозой.
И все-таки для австрийских евреев это было время надежд. Начиная с 1848-го юридический статус евреев во владениях Габсбургов неуклонно улучшался. Революционный год принес с собой легализацию религиозных обрядов, упразднение обременительных и унизительных налогов, а также равенство с христианами в праве владения частной собственностью, выборе профессии и занятии любой государственной должности. В 50-х годах XIX столетия рухнули такие унизительные памятники религиозной нетерпимости, как законы, запрещающие евреям нанимать слуг из числа христиан, а также христианам приглашать еврейских повитух. К 1867 году были устранены практически все оставшиеся зоны правовой дискриминации. По крайней мере, евреи были довольны результатами этих законодательных реформ.
Более того, в 1860-м либеральная фракция получила власть в Вене и установила режим, в котором авторитетные бюргеры из числа евреев могли рассчитывать на общественное признание и даже на политическую карьеру. И действительно, после соглашения 1867 года, или Ausgleich, которое преобразовало обширные владения Габсбургов в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, несколько постов в «буржуазном кабинете министров» занимали евреи. Именно в тот период Фрейд и его родители повстречали поэта-пророка в одном из ресторанов Пратера. Это было время, как он впоследствии отметил в «Толковании сновидений», когда «…каждый прилежный еврейский мальчик «носил министерский портфель» в своем ранце».
Есть что-то жалкое в том, как в конце 90-х годов Фрейд перефразировал знаменитое революционное изречение Наполеона, что каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл… Красивый и необыкновенно популярный демагог Карл Люгер, сделавший антисемитизм основой своей политической платформы, в 1897 году занял пост бургомистра Вены. Ненависть к евреям уже достаточно давно стала неотъемлемой составляющей венской политики: в 1885-м Фрейд сообщал своей невесте, что в день выборов, 1 июня, в городе были бунты и антисемитские демонстрации. Люгер оказался, что называется, катализатором новой политики 90-х XIX века. У него имелись друзья среди евреев, и в личном общении он был настроен доброжелательнее, чем в выступлениях перед публикой, но многие его сторонники оказались гораздо большими фанатиками, чем их лидер, абсолютно последовательными в своем антисемитизме. Таким образом, приход Люгера ознаменовал окончательное и необратимое банкротство австрийского либерализма. Однако на протяжении более 35 лет – в этот период Фрейд взрослел, учился, женился, становился отцом и разрабатывал положения психоанализа – либерализм оставался заметным, хотя и постепенно слабевшим течением в венской политике. Вспоминая те пьянящие десятилетия давно ушедших времен, Фрейд называл себя либералом старой школы.
В действительности в 60-х годах XIX столетия и позже для венских евреев либерализм был позицией одновременно принципиальной и благоразумной: такие альтернативы, как сионизм или социализм, еще не появились на их горизонте. Подобно многим другим образованным соплеменникам, Фрейд стал либералом потому, что либеральные взгляды соответствовали его убеждениям, а также потому, что – как гласит поговорка – это хорошо для евреев. В том, что касается человеческой природы, Фрейд являлся пессимистом и поэтому скептически относился к политическим панацеям любого рода, однако консерватором он не был. Его, как и любого уважающего себя буржуа, раздражали высокомерные аристократы и – даже в большей степени – твердолобые священнослужители. Он рассматривал католическую церковь и ее австрийских представителей как главное препятствие полной интеграции евреев в общество. Как нам известно, у Фрейда еще в школьные годы возникали причудливые фантазии, в которых он мстил всем антисемитам. Буйный рост популистского антисемитизма дал ему новые объекты для ненависти, однако он никогда не забывал своего старого врага – Римско-католическую церковь. Для Фрейда и других ассимилировавшихся евреев австрийские либералы выглядели вдохновляющим контрастом по сравнению с демагогами и клерикалами.
Это нетрудно объяснить. Как бы то ни было, именно либералы в 1867 году гарантировали евреям все гражданские права. Показательно, что Neue Freie Presse, единственная венская газета, имеющая репутацию интернациональной, посчитала необходимым в 1883-м напомнить читателям по поводу антисемитской демонстрации, что первый догмат либерализма заключается в том, что граждане всех конфессий обладают равными правами. Неудивительно, что Фрейд читал Neue Freie Presse ежедневно – газета поддерживала либеральные взгляды, которые он разделял.
К тому времени, когда юный Сигизмунд осознал эти политические реалии, подобные взгляды получили широкое распространение среди австрийских евреев. В разгар избирательной кампании 1879 года главный раввин Вены Адольф Желинек заявил, что в соответствии со своими жизненно важными интересами евреи Австрии должны быть верными конституции и силам либерализма. Публицист и раввин Иосиф Самуэль Блох приводил целый список достоинств либерализма: это не просто доктрина, не только удобный принцип, а духовное убежище еврея, его надежная защита, его право на свободу, его богиня-покровительница, владычица его сердца. И австрийские евреи отдали свои голоса так, как подсказывало это самое сердце: их поддержка либеральных кандидатов была просто невероятной. Фрейд голосовал за них, когда представлялась такая возможность[14]. Клерикализм, ультрамонтанство[15] и федерализм, за который выступали остальные, ненемецкие, части Австро-Венгерской империи, – все это были враги евреев. Фрейд не слишком интересовался политикой, но немногие критические комментарии в его письмах, относящихся к либеральным десятилетиям, свидетельствуют о том, что в целом он был удовлетворен сложившимся положением и согласен с Желинеком, Блохом и Neue Freie Presse. С конца 90-х годов, когда власть в городе перешла к Люгеру и его сторонникам, у Фрейда появились бы темы для критики.
Приход либерализма в политику и культуру означал нечто большее, чем появление клуба облеченных властью политиков с одинаковым мировоззрением. Символы перемен были видны повсюду. Вслед за другими западноевропейскими столицами – Берлином, Парижем, Лондоном – Вена в XIX веке росла и менялась с поразительной быстротой. В 1860 году население города составляло около 500 тысяч человек, а 20 лет спустя, когда будущий основатель психоанализа заканчивал обучение медицине, венцев насчитывалось уже 700 тысяч, причем многие из них, как и Фрейды, были уроженцами других мест. Подобно Парижу, префект которого барон Осман – энергичный, безжалостный и обладавший богатым воображением – перестроил город почти до неузнаваемости, Вена за эти два десятилетия изменилась навсегда. В 1857 году Франц Иосиф приказал снести старые укрепления, окружавшие центр. Семь лет спустя от них почти ничего не осталось, и начала формироваться широкая Рингштрассе – улица, имеющая форму кольца. В 1865-м, когда девятилетний Фрейд поступил в гимназию, император и императрица официально открыли этот грандиозный бульвар. По обеим сторонам строились многочисленные общественные здания вперемешку с массивными жилыми домами, олицетворением либеральной культуры и либеральной конституции. Новая Венская опера была готова в 1869 году, а через 12 лет появились два огромных, богато украшенных музея. В 1883-м открылись здание парламента, построенное в стиле неоклассицизма, и неоготическая ратуша – дорогостоящие и выразительные архитектурные символы либеральной идеологии.
Все это выглядело впечатляющим и одновременно сомнительным. Много лет спустя, пытаясь выразить суть дуалистической монархии, австрийский писатель Герман Брох, воспринимавший современность как эпоху крушения традиционных ценностей и «расщепления» целостного мира, вспоминал – эту его фразу часто цитируют – «веселый апокалипсис примерно в 1880-м». Апокалипсис был хорошо замаскирован, наряжен в защитные одежды сентиментальных излияний о прекрасном голубом Дунае, высокопарного воспевания изысканной культуры, веселых звуков вальсов и хлопающих пробок шампанского. Точная оценка Броха прозвучала по прошествии многих лет, однако и в то время находились критически настроенные личности (не Фрейд, поскольку все его время поглощали медицина и любовь), которые считали Дунай грязным, шампанское выдохшимся, а вальс безрассудным танцем у кратера ревущего вулкана.
На протяжении этих десятилетий Вена оставалась самым популярным убежищем для еврейских иммигрантов с востока континента. Их сюда продолжало прибывать гораздо больше, чем в любой немецкий город, поскольку, несмотря на неоднозначную ситуацию в Австрии, в других местах было еще хуже. К концу XIX века состав венских евреев стал очень разнородным: давно осевшие в городе семьи, иммигранты из других стран, по большей части из России, и новоприбывшие с обширных владений Габсбургов, Галиции, Венгрии или (как Фрейды) Моравии. Их число постоянно менялось; тысячи евреев наводняли город, рассматривая его как убежище от преследований и сосредоточие возможностей, а многие покидали Вену, чтобы обосноваться в Германии или за океаном. В 80-х и в 90-х годах Фрейд тоже иногда задумывался об эмиграции, возможно в Соединенные Штаты, хотя скорее всего в Англию, которую любил с юности.
Влияние еврейского вторжения, как любили называть его антисемиты всех мастей, поставило ассимилировавшихся евреев Вены перед той же дилеммой, хотя и не такой острой, с которой в эти годы сталкивались их соплеменники в других городах, в частности в Берлине или Лондоне. Определенное сочувствие к бедным и зачастую пережившим немалые страдания беженцам из невежественной Восточной Европы нередко уступало место защитной реакции неприятия их обычаев и внешности. Эта тенденция не обошла и Фрейда. В 16-летнем возрасте, возвращаясь из родного Фрайберга, он встретил в поезде «…в высшей степени почтенного старого еврея с такой же почтенной старой еврейкой, меланхоличной и вялой маленькой дочерью и дерзким, подающим надежды сыном», а затем рассказал о своем отвращении в письме школьному другу Эмилю Флюсу, тоже еврею. Общество попутчиков Сигизмунд нашел «более нестерпимым, чем любое другое», хотя подобных старику людей хорошо знал по Фрайбергу. Таким же, по словам Фрейда, оказался и сын, с которым он говорил о религии. «Это была глина, из которой судьба вылепит мошенника, когда придет подходящее время: хитрый, лживый, поддерживаемый дорогими родственниками в убеждении, что у него есть талант, но без принципов и без жизненной позиции». Даже ярый антисемит, сделавший нападки на евреев своей профессией, не смог бы нарисовать более убедительную картину[16].
Одежда, речь и жестикуляция многих иммигрантов из жалких деревушек на востоке выглядели непривычно для венцев и вызывали неодобрение – все это было слишком экзотическим, чтобы признать его знакомым, и в то же время недостаточно экзотическим, чтобы казаться милым и очаровательным. В город приезжали уличные торговцы и мелкие лавочники, но их сыновья выбирали профессии, уязвимые для яростной критики и откровенной клеветы, – банковское дело, оптовую торговлю или журналистику. К 80-м годам XIX столетия как минимум половина всех венских репортеров, врачей и адвокатов были евреями. В гимназии Фрейд, раздумывая над тем, какую карьеру выбрать, юриста или доктора, шел по проторенной дороге. Именно так поступали многие молодые евреи из Вены. Демонстрируя общеизвестную тягу к знаниям, они наводнили венские учебные заведения, и, поскольку еврейское население было сосредоточено в определенных районах города, в нескольких школах многие классы стали похожи на разросшиеся семейные кланы. За восемь лет пребывания Фрейда в гимназии, с 1865-го по 1873-й, число евреев в ней увеличилось с 68 до 300, или с 44 до 73 процентов всех учащихся.
Чувствуя себя словно в осаде из-за растущего присутствия евреев, австрийские христиане выражали свое беспокойство в юмористических журналах, частных клубах и на политических митингах. Они нервно шутили, призывали к ассимиляции непрошеных «чужаков» или, по крайней мере некоторые, яростно выступали за их высылку. В 1857 году, когда Фрейду был один год, в Вене, согласно переписи, жили немногим более 6000 евреев, что составляло чуть больше 2 процентов населения города. Десять лет спустя благодаря смягчению норм законодательства и растущим экономическим возможностям евреи прибывали в город огромными волнами – теперь их стало 40000, или 6 процентов жителей. В 1872 году Якоб Буркхардт, знаменитый швейцарский историк культуры, стоявший у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины, знаток эпохи Возрождения, презиравший суету и нервозность современной ему цивилизации и считавший евреев ее главным воплощением, во время одного из своих посещений Вены сделал мрачное заключение – городом правят именно они. Буркхардт с явным одобрением отметил «растущую антипатию к всемогущим евреям и их насквозь продажной прессе». Однако «вторжение» еще не закончилось… К 1880 году, когда число евреев в Вене превысило 72000, каждый десятый житель города был евреем. Приехав сюда еще раз в 1884-м, Буркхардт нашел Вену полностью «объевреенной» – verjudet. Во времена Фрейда этот оскорбительный термин приобрел угрожающую популярность. Совершенно очевидно, что он выражал широко распространенную точку зрения.
Таким образом, XIX век, ставший эпохой освобождения евреев всей Европы, оказался интерлюдией между старым и новым антисемитизмом. Еврей – высокомерный, провозгласивший себя богоизбранным и наряду с этим один из тех, кто распял Христа, – превратился в беспринципного спекулянта и испорченного космополита. Совершенно естественно, что дети подражали родителям, и антисемитские разговоры из публичной демагогии и семейных предрассудков перешли в ежедневную травлю в школе. В старших классах гимназии Фрейд также стал понимать все значение своего происхождения от семитской расы. По мере того как антисемитские течения среди товарищей заставили его занять «определенную позицию», Сигизмунд все больше идентифицировал себя с героем своей юности, семитом Ганнибалом.
В то же время открывшиеся возможности манили освобожденных австрийских евреев в другие сферы, не связанные с финансовой выгодой или карьерой. Евреи играли заметную роль в культурной жизни Вены – как творцы и как посредники. Среди них были издатели, редакторы, владельцы галерей, театральные и музыкальные антрепренеры, поэты, писатели, дирижеры, музыканты-виртуозы, живописцы, ученые, философы и историки[17]. Такие имена, как Артур Шницлер, Карл Краус, Густав Малер, дают лишь слабое представление о числе и разнообразии талантов. Евреи делали карьеру в администрации и армии дуалистической монархии – в основном после перехода в христианство, однако некоторые достигали высоких должностей, не принимая крещение. Некоторым еврейским семьям было пожаловано дворянство – как признание богатства или заслуг перед государством, – и при этом они не отрицали свое происхождение, не говоря уж об отречении.
Писатель и драматург Артур Шницлер, крупнейший представитель венского импрессионизма, который был на шесть лет младше Фрейда, так описывал эту двусмысленную ситуацию в автобиографии: «В те дни – в конце периода расцвета либерализма – антисемитизм существовал, как это было всегда, в виде чувства в многочисленных склонных к нему сердцах и как идея с широкими возможностями развития, но не играл значительной роли в политической или общественной жизни». Этот термин еще не был изобретен, и тех, кто не любил евреев, насмешливо называли пожирателями евреев – Juden-fresser. В своем окружении Шницлер нашел лишь одного такого – его все не любили за щегольство, снобизм и глупость. Шницлер считал, что антисемитизм той эпохи считался чем-то неприличным и не был опасен. Тем не менее он вызывал тревогу и чувство горечи. Но со временем ненависть к евреям становилась все более открытой и опасной. Другой образованный житель Вены той эпохи, доктор Валентин Поллак, родившийся в 1871 году, вспоминал: «В моей ранней юности это была всего лишь глухая ненависть. Она отвергалась приличным обществом, но мы остро ее чувствовали и были вынуждены остерегаться жестоких засад хулиганствующих подростков». Австрийские евреи надеялись, что все изменится к лучшему, и до конца 90-х годов XIX столетия, когда расистский антисемитизм развернулся в полную силу, оптимизм побеждал все мрачные предчувствия. Это были времена, когда еврейские школьники, и в их числе Сигизмунд Фрейд, видели в своих мечтах генеральский мундир, профессорскую мантию, министерский портфель или скальпель хирурга.
5
Даже тогда Фрейд продолжал колебаться: в 1872 году, еще в школе, он подписал одно из писем именем Зигмунд, но тремя годами позже, когда уже изучал медицину в Венском университете, на своем экземпляре книги Дарвина Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, немецком переводе работы «Происхождение человека и половой отбор», написал: «Сигизмунд Фрейд, студент медицинского факультета, 1875». Поскольку он сам никогда не объяснял причин, по которым сократил свое имя, все рассуждения о том, какое это имело для него значение, остаются лишь гипотезами. Авт.
6
Здесь и далее цитаты из «Жизнеописания» даны в переводе А. Жеребина (Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах).
7
Согласно семейному преданию, рассказанному сестрой Фрейда Анной, имя Александр было выбрано на семейном совете, и предложил его десятилетний Сигизмунд – как символ благородства и таланта военачальника. (См.: Jones I, 18. Это и другие сокращения см. с. 816.) Авт.
8
К матери (лат.).
9
Нагишом (лат.).
10
Здесь и далее цитаты из «Толкования сновидений» даны в переводе А. Боковикова (Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Фирма СТД, 2003).
11
Подозреваю, что у Фрейда была еще одна причина выбрать любимым героем великого полководца, который вопреки всему едва не одержал победу над отвратительным и ненавистным Римом, причем сам Фрейд, скорее всего, о ней не догадывался. Выбирая имя младшему брату Александру, он отдавал дань завоевателю, превзошедшему своего отца, Филиппа Македонского, – который сам был великим человеком, – и поэтому в случае с Ганнибалом мог отождествлять себя с другой известной фигурой, чья слава затмила славу отца, – Гамилькара, который подобно Филиппу Македонскому являлся выдающимся государственным деятелем и военачальником, оставившим след в истории. В «Психопатологии обыденной жизни» сам Фрейд связывает выбор Ганнибала с отцом: в «Толковании сновидений» он делает любопытную ошибку, называя отца Ганнибала не Гамилькаром, а Гасдрубалом, что, по его мнению, объясняется недовольством поведением Якоба Фрейда по отношению к антисемитам. (См.: Psychopathology of Everyday Life, SE VI, 219–220.) Тем не менее в выборе Фрейда, скорее всего, присутствовал и элемент эдипова комплекса: он мог демонстрировать, что сильнее отца, то есть выиграл эдипово противостояние, не слишком унижая его. Таким образом, дома Фрейд мог торжествовать победу, одновременно уважая «врага». Авт.
12
В действительности в результате биржевого краха австрийские евреи пострадали не меньше остальных. Отец будущего писателя Артура Шницлера, например, вместе с другими жертвами потерял все, что сумел скопить. (См.: Schnitzler A. Jugend in Wien [1968], 48.) Авт.
13
В 1930 году, вспоминая эти дни в своем письме к Й. Двосису, иерусалимскому переводчику его работ на иврит, Фрейд прямо писал о «немецком антисемитизме». (См.: Фрейд Й. Двосису (в Иерусалим), 15 декабря 1930. Музей Фрейда, Лондон.) И действительно, в начале 70-х годов XIX века в Германии отмечались такие же настроения, с той же самой, пропитанной нетерпимостью риторикой. Однако австрийский вариант антисемитизма не нуждался в помощи северного соседа – как и в будущем. Авт.
14
2 июня 1885 года Фрейд писал своей невесте Марте Бернайс: «Выборы прошли вчера, и это очень волнующий день для Вены. Либеральная партия потеряла четыре места; в районах Мариахильф и Баднер были избраны антисемиты». (С разрешения Sigmund Freud Copyrights, Wivenhoe.) Авт.
15
Ультрамонтанство – идеология и течение в Римско-католической церкви, выступавшие за жесткое подчинение национальных католических церквей папе, а также защищавшие верховную светскую власть понтифика над светскими государями Европы.
16
В отсутствие других свидетельств это презрительное описание остается не до конца понятным. Возможно, это всего лишь снобизм хорошо образованного, говорящего на немецком языке еврея, который он демонстрировал своим друзьям. Но поскольку мать Фрейда, вне всяких сомнений, была родом из Восточной Европы, остается лишь гадать, то ли Фрейд отрицал корни матери, то ли – не так выраженно и не совсем осознанно – бунтовал против нее. Авт.
17
Вспоминая о своем пребывании в Вене в конце века, немецкий писатель еврейского происхождения Якоб Вассерман подчеркивал, что, в отличие от Германии, «почти все люди, с которыми у меня возникал интеллектуальный или душевный контакт, были евреями… Вскоре я понял, что во всей общественной жизни доминировали евреи. Банки, пресса, театр, литература, общественные функции – все находилось в руках евреев. Поскольку австрийская аристократия не проявляла интереса к подобным занятиям, они оставались немногим нонконформистам – и евреям». (См.: Wassermann J. Mein Weg als Deutscher und Jude [1922], 102.) Авт.