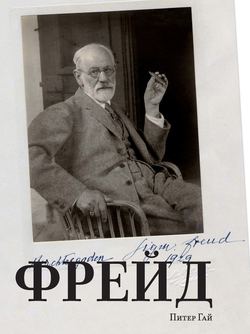Читать книгу Фрейд - Питер Гай - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Основы
1856–1905
Глава первая
Жажда знаний
Притягательность исследований
ОглавлениеЧестолюбивый, не скрывавший своей самоуверенности, блестяще успевавший в школе и жадно читающий, юный Фрейд имел все основания считать, что перед ним открывается перспектива для выдающейся карьеры в той области, которую позволит ему выбрать суровая действительность. «В гимназии, – вспоминал он в своем автобиографическом очерке, – я был первым учеником на протяжении семи лет, находился благодаря этому на особом положении, меня почти не спрашивали». Табели успеваемости, которые он сохранил, неизменно свидетельствуют о примерном поведении и прекрасных успехах в учебе. Родители, естественно, предсказывали ему великие свершения, а другие люди, например преподаватель религии и друг его отца Самуэль Хаммершлаг, с готовностью обосновывали их излишне оптимистичные и экстравагантные ожидания.
Безусловно, прежде чем приступить к воплощению в жизнь родительских (и своих, разумеется) надежд, Фрейд прошел через подростковый переходный обряд – первую любовь. В 1872 году, в 16-летнем возрасте, он приехал во Фрайберг в гости. Среди его спутников был Эдуард Зильберштейн, самый близкий друг тех лет. Вдвоем они основали тайную «Испанскую академию», в которой кроме них не было других членов, в шутку обращались друг к другу по именам двух собак из произведений Сервантеса и в дополнение к обширной корреспонденции на немецком языке обменивались конфиденциальными письмами на испанском. В одном эмоциональном послании Фрейд признавался в легкой тоске из-за отсутствия друга и жажде «душевного» разговора. Другое послание содержит предостережение: «Да не коснется чужая рука этого письма» – «No mano otra toque esa carta». В этом письме Фрейд поделился с другом самыми сокровенными чувствами – рассказал о своей влюбленности.
По всей видимости, предметом привязанности Сигизмунда была Гизела Флюс, годом младше его, сестра еще одного школьного друга, тоже из Фрайберга. Он очень увлекся этой, по его словам, полунаивной и полуобразованной девушкой, но скрывал свои чувства, виня свой «бессмысленный гамлетизм» и робость за неспособность подарить себе удовольствие от разговора с ней. Фрейд продолжал называть Гизелу – как и предыдущие несколько месяцев – Ихтиозаврой, прозвищем, которое представляет собой утонченную игру слов, связанных с ее фамилией: Флюс переводится с немецкого как «река», а ихтиозавр был речным созданием, разумеется вымершим. Однако «первый восторг» Сигизмунда, как он сам выражался, ограничился лишь робкими фантазиями и несколькими встречами, оставившими у обоих чувство неловкости.
На самом деле признание Фрейда своему другу Зильберштейну заставляет предположить, что весь этот эпизод был запоздалым эдиповым влечением: он подробно описывает достоинства матери Гизелы – ее ум, культуру, разносторонность, неизменную жизнерадостность, мягкость в обращении с детьми, сердечность и гостеприимство, в том числе по отношению к нему. Именно фрау Флюс, а не Гизела была истинным объектом его безмолвной, мимолетной юношеской страсти. «Похоже, – признавался Фрейд, интуитивно предвосхищая тот тип восприятия, которому впоследствии посвятит жизнь, – я перенес уважение к матери на дружеские чувства к дочери».
Однако вскоре Сигизмунд обратился к более серьезным проблемам. Ему предстояло поступать в университет, и выбор карьеры, как и стремление к славе, сопровождался внутренними конфликтами и болезненными, хорошо запомнившимися неудачами. В «Толковании сновидений» он вспоминает унизительный случай, произошедший, когда ему было семь или восемь лет. Однажды вечером он помочился в спальне родителей, в их присутствии. Впоследствии психоаналитик Фрейд объяснит, почему у мальчиков может возникать такое желание. Якоб Фрейд, рассердившись, сказал сыну, что из него ничего не выйдет. Воспоминания об этом преследовали юного Фрейда на протяжении многих лет. Это стало страшным ударом по самолюбию, который снова и снова появлялся в его снах. Возможно, все было не совсем так. Но поскольку искаженные воспоминания не в меньшей, а возможно, и в большей степени отражают истину, чем точные, память об этом случае, по всей видимости, вместила в себя его желания и его страхи. Как бы то ни было, Фрейд признавался, что всякий раз, вспоминая тот эпизод, он поспешно перечислял свои достижения, как будто торжествующе демонстрировал отцу, что из него все-таки кое-что вышло[18]. Если он действительно помочился в спальне родителей, это был из ряда вон выходящий случай в семье Фрейд: сдержанный ребенок поддался внезапному, неодолимому порыву, а любящий отец отреагировал вспышкой раздражения, которая быстро прошла. А в целом многообещающий мальчик не мог сделать ничего дурного – и не делал.
Порывы, оживившие стремление Фрейда занять высокое положение в обществе, из которых нельзя исключить потребность отомстить и реабилитировать себя, были далеко не очевидны. Поэтому мотивы, заставившие его выбрать медицину, и курс, которым он следовал, определившись с выбором, выявить очень трудно. Свидетельство Фрейда, будучи фактически точным, требует толкования и объяснения. Он пишет о внутренних конфликтах, но благородно упрощает их разрешение. «Под сильным влиянием своего друга и старшего товарища по гимназии, сделавшегося затем политиком, и я хотел изучать юриспруденцию, чтобы посвятить себя общественной деятельности». Этим школьным другом был Генрих Браун, впоследствии ставший редактором и одним из самых известных политиков социал-демократического толка. Далее Сигизмунд добавляет: «Между тем меня сильно привлекало актуальное в те годы учение Дарвина, ибо казалось, что оно способно дать ключ к постижению мира, и еще я помню, что решение поступать на медицинский факультет я принял после того, как незадолго до экзаменов на аттестат зрелости услышал популярную лекцию профессора Карла Брюля, посвященную прекрасному фрагменту Гёте «Природа».
В этой истории есть признаки мифотворчества или, по крайней мере, избыточного упрощения. Карл Бернхард Брюль, известный специалист по сравнительной анатомии и профессор зоотомии Венского университета, был популярным лектором, умевшим увлечь слушателей. Фрагмент, который повлиял на выбор Фрейда, представляет собой эмоциональный и восторженный гимн, восхваляющий эротизированную природу как всеобъемлющую, вечно обновляющуюся мать, которая способна задушить в своих объятиях. Да, он мог стать последним толчком к принятию решения, которое уже зрело в сознании Фрейда. Тот сам не раз об этом говорил. Однако сие ни в коем случае не было внезапным откровением. Слишком многое должно было произойти, чтобы отрывок из произведения Гёте приобрел для Фрейда такое значение. И вообще, это был не Гёте…
Мы не знаем точный ход мыслей Фрейда, но в середине марта 1873 года он сообщил своему другу Эмилю Флюсу – тоном, который сам Сигизмунд скромно назвал пророческим, – что может преподнести кое-какие новости, возможно самые важные в его жалкой жизни. Он и далее выражался туманно и уклончиво, в несвойственной ему манере: «Я не хочу говорить о чем-то еще неокончательном, несвершившемся, чтобы потом не пришлось брать свои слова обратно». Наконец, 1 мая Фрейд переборол себя и решился внести ясность. «Если я приподниму завесу тайны, ты не будешь разочарован? – спрашивал он Флюса. – Теперь представь: я решил посвятить себя естественным наукам». Фрейд отвергает карьеру юриста, но, сохраняя легкомысленный тон, не отступает от юридического лексикона, словно намекает на сохранившуюся тягу к профессии, от которой отказался: «Я буду исследовать документы природы тысячелетней давности и, возможно, лично подслушаю ее вечный судебный процесс, поделюсь своими победами с каждым, кто пожелает узнать». Эта краткая остроумная фраза намекает на серьезность конфликтов, которые были преодолены или, скорее, решительно отброшены. В августе того же года Фрейд вложил в письмо к Зильберштейну отпечатанную визитную карточку с надписью: «Сигизмунд Фрейд / студ. юр.». Возможно, сие была шутка, но в ней виден намек на сожаления.
В 1923 году Фриц Виттельс, венский психиатр, который стал одним из первых независимых последователей Фрейда и его первым биографом, проницательно заметил, что утверждение Фрейда о том, какую роль сыграл фрагмент «Природа» в его жизни, похоже на защитную память, своего рода безобидное воспоминание, за мнимой ясностью которого скрывается некий более важный и не такой однозначный прошлый опыт. Образ матери, вызванный фрагментом, который прочитал Брюль, с обещанием любви и защиты, обволакивающей нежности и неиссякаемого источника пищи, мог показаться Фрейду, в то время впечатлительному юноше, привлекательным. Как бы то ни было, «Природа» упала на подготовленную почву.
Кроме того, крайне маловероятно, что предпочесть медицину юриспруденции помог откровенный и практичный совет отца: Фрейд не преминул письменно засвидетельствовать: «…мы были стеснены в средствах, но мой отец потребовал, чтобы, выбирая профессию, я следовал исключительно своим склонностям». Если же воспоминания о «Природе» Гёте представляли собой защитную, искаженную память, то скрывали они, скорее всего, не рациональные, а эмоциональные мотивы. Выбрав медицину по собственной воле, Фрейд тем не менее отмечал в своем «Жизнеописании» – в эссе, где автобиография вплетена в историю психоаналитического движения: «Никакой особой любви к профессии и деятельности врача я тогда не испытывал, как, впрочем, не испытываю ее и сегодня. Скорее мною руководила своего рода жажда знаний…» Это одно из самых важных высказываний биографического характера, когда-либо опубликованных Фрейдом. Впоследствии психоаналитик Зигмунд Фрейд укажет на сексуальное любопытство юношей как на истинный источник стремления к научному исследованию, поэтому вполне логично рассматривать эпизод в родительской спальне, когда ему было семь или восемь лет, как откровенное и довольно грубое проявление такого любопытства, впоследствии реализовавшегося в научных исследованиях.
Изучение медицины сулило не только сублимацию примитивной тяги к знаниям, но и психологическое вознаграждение. Юношей, как впоследствии отметил Фрейд, он еще не осознавал ценности наблюдений, которые предполагают сдержанность и объективность, для удовлетворения своего ненасытного любопытства. Незадолго до женитьбы он сочинил для своей невесты короткий «автопортрет», в котором просматривается то же отсутствие холодной сдержанности: Фрейд чувствовал себя наследником «…всех страстей наших предков, когда они защищали свой храм». Бессильный, не способный выразить «жаркие страсти в стихах или прозе», он всегда «подавлял» себя. Когда много лет спустя биограф Фрейда Эрнест Джонс спросил, много ли философских трудов тот прочитал, мэтр ответил: «Очень мало. Будучи молодым человеком, я имел чрезмерное пристрастие к размышлению и безжалостно подавлял его». В последний год своей жизни Фрейд в том же духе рассуждал об определенной сдержанности перед лицом своей субъективной склонности чрезмерно поддаваться воображению и научной любознательности. Вне всяких сомнений, он считал важным не сдерживать свое научное воображение, особенно в годы исследований, но в его самооценке – в письмах, научных статьях и записанных беседах – проглядывают определенные опасения утонуть в трясине размышлений, а также сильное стремление к самоконтролю. На третьем курсе университета, в 1875 году, Фрейд все еще собирался получить степень доктора философии, специализируясь на философии и зоологии, но в конечном счете победила медицина, и его обращение к медицине – скрупулезной, дотошной, эмпирической и ответственной науке – было желанием не обнять любящую и удушающую мать-природу, а убежать от нее, или, по крайней мере, держать ее на расстоянии. Медицина была частью победы над собой.
Еще до окончания с отличием гимназии – в 1873 году – Фрейд понял, что из всей природы ему больше всего хочется понять природу человека. Его жажда знаний, как он заметил впоследствии, была направлена в большей степени на человеческие отношения, чем на естественно-научные предметы. Он еще в юности демонстрировал это свое отношение в письмах самым близким друзьям, которые наполнены откровенным любопытством и субъективными ощущениями. «Мне доставляет удовольствие, – писал Фрейд Эмилю Флюсу в 1872 году, когда ему было 16 лет, – осознавать прочность нитей, которыми переплетены случай и судьба вокруг всех нас». Несмотря на молодость, Фрейд уже пришел к выводу о крайней подозрительности только поверхностного общения. «Я заметил, – жаловался он Эдуарду Зильберштейну летом 1872-го, – что ты позволяешь мне узнавать лишь об отдельных происшествиях в твоей жизни, но совсем не делишься своими мыслями». Он уже стремился найти более глубокие откровения. Описывая международную выставку, которая проходила в Вене в 1873 году, Фрейд охарактеризовал ее как приятную и милую, но не увидел в ней ничего выдающегося. «Я не смог найти широкую, связную картину человеческой деятельности, подобно тому, как невозможно определить особенности ландшафта по гербарию». «Величие мира, – продолжал он, – основано на множестве возможностей, но, к несчастью, это не является прочной основой для нашего самопознания». Это слова прирожденного психоаналитика.
Двойственное отношение Фрейда к медицинской практике тем не менее не смогло ослабить его желание лечить людей или удовольствие от исцеления больных. В 1866 году, 10-летним школьником, он энергично проявлял свои гуманистические наклонности, умоляя учителей организовать кампанию по сбору бинтов для австрийских солдат, раненных на войне с Пруссией. Почти десятью годами позже, в сентябре 1875-го, уже проучившись два года на медицинском факультете, Фрейд признался Эдуарду Зильберштейну: «Теперь у меня не один идеал. К теоретическому прошлых лет прибавился практический. В прошлом году, когда меня спросили о самом большом желании, я ответил: лаборатория и свободное время или океанское судно и все необходимые для исследователя инструменты». Рассказывая о своих мечтах, Фрейд явно имел в виду Дарвина, которым он восхищался, и плодотворные годы, проведенные великим ученым на «Бигле». Впрочем, поиск научной истины был не единственным желанием Фрейда. «Теперь же, – продолжал он, – я думаю, что мне следовало бы ответить: большая больница и много денег, чтобы укротить некоторые из недугов, которые обрушиваются на наши тела, или вообще стереть их с лица земли». Это желание бороться с болезнями периодически прорывалось наружу. «Сегодня я пришел к пациенту, не зная, как проявить необходимые ему внимание и сочувствие, – писал он своей невесте в 1883 году. – Я был таким усталым и апатичным». Но, услышав жалобы больного, Фрейд тут же встряхнулся: «Я понял, что у меня есть дело и я тут нужен».
Безусловно, самая устойчивая сублимация детского любопытства привела к научным исследованиям загадок сознания и культуры. В 1927 году, оглядываясь назад, Фрейд утверждал, что никогда не был настоящим врачом и после долгого окольного пути снова нашел свое первоначальное направление. В последней автобиографической заметке, написанной в 1935-м, когда ему было почти 80 лет, он вновь говорил о своего рода регрессивном развитии. Пройдя долгий окольный путь через естествознание, медицину и психотерапию, он вернулся к тем проблемам культуры, которыми был увлечен в юности, когда его мышление «только еще пробуждалось». Этот путь, как мы вскоре выясним, был не таким окольным, как предполагают слова самого Фрейда. Все сказанное выше лило воду на его мельницу.
Поступив в венский университет, Фрейд сразу столкнулся с таким неприятным явлением, как антисемитизм, злившим его и оставившим такой сильный отпечаток в памяти, что он уделил ему значительное место в автобиографии, написанной полвека спустя. Фрейд считал необходимым отметить, что его реакцией были вызов и даже грубость. Обычно он обращал гнев себе на пользу. Студенты из числа христиан необоснованно предполагали, что, будучи евреем, Фрейд почувствует свою неполноценность и отчужденность от австрийского народа – nicht volkszugeho#rig. Однако он со всей решительностью отвергал это приглашение к унижению: «Я никогда не понимал, почему я должен стыдиться своего происхождения или, как начали тогда говорить, своей расы». С таким же самоуважением и без больших сожалений он отказался от сомнительной привилегии быть таким, как все, полагая, что изоляция пойдет ему на пользу. Если его судьба в том, чтобы быть в оппозиции, полагал Фрейд, то этим «подготовлялась привычка к известной независимости суждений». Вспоминая честного и отважного доктора Стокмана из пьесы Ибсена «Враг народа», Фрейд открыто заявляет, что доволен своим исключением из числа «сплоченного большинства»[19].
Это не просто хвастовство. Сохранились письменные свидетельства силы духа и смелости Фрейда. В начале 1875 года он сказал Эдуарду Зильберштейну, что его вера в общепризнанное ослабла, а тайная склонность к мнению меньшинства усилилась. Эта позиция помогала ему противостоять медицинскому истеблишменту и укоренившимся взглядам, но антисемиты всегда приводили его в бешенство. В 1883 году, путешествуя поездом, он в очередной раз столкнулся с ними. Недовольные тем, что Фрейд открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, они назвали его жалким евреем, язвительно отозвались о его нехристианском эгоизме и пригрозили, что поставят на место. Нисколько не смутившись, Фрейд дал отпор своим оппонентам, повысил голос и в конечном счете одержал победу над этим сбродом, как он выразился. Другой подобный случай вспоминал его сын Мартин. В 1901 году на баварском летнем курорте Тумзее Фрейд обратил в бегство компанию примерно из десяти мужчин и нескольких поддерживавших их женщин, которые выкрикивали антисемитские оскорбления Мартину и его брату Оливеру, яростно набросившись на них с тростью. Возможно, Фрейду такие моменты приносили удовлетворение, контрастируя с пассивной покорностью, с которой относился к оскорблениям его отец.
Но время для подобных стычек пока не пришло. Университетская жизнь 70-х годов XIX века еще не была обезображена антисемитскими выступлениями студентов, как это произошло позже. Пока же от Фрейда требовалась только сила духа – и направление. Он поступил в университет довольно рано, в 17 лет, а окончил учебу поздно, когда ему было уже 25. Неуемное любопытство и увлеченность исследованиями не позволили ему получить диплом врача за пять лет обучения, как это было принято в то время. Широта интересов Фрейда оказалась запрограммированной. «Первый год в университете, – объявлял он своему другу Зильберштейну, – я полностью потрачу на изучение гуманистических предметов, которые не имеют никакого отношения к будущей профессии, но которые будут мне полезны». Он клялся, что если его спросить о планах, то он откажется дать определенный ответ и скажет лишь – ученый, профессор, что-то вроде того. Несмотря на критическое отношение к философии и к тем, кто, подобно Зильберштейну, как писал Фрейд, «обратились к философии от отчаяния», в эти годы сам он прочитал много философских работ. Следует, однако, заметить, что наибольшую пользу ему принесло знакомство с трудами такого мыслителя, как Людвиг Фейербах. «Из всех философов, – делился Фрейд с Зильберштейном в 1875 году, – я больше всего восхищаюсь этим человеком и преклоняюсь перед ним».
Наследник эпохи Просвещения XVIII столетия, подобный Фрейду, не мог не восхищаться Фейербахом, самым сильным в интеллектуальном плане из левого крыла гегельянцев. Фейербах придерживался стиля, свободного от сухих абстракций, к которым тяготела немецкая научная проза, и агрессивной манеры, очаровывавшей или отпугивавшей читателей, когда он обрушивался на «избитые спекулятивные фразы или анонимные недостойные приемы» своих хулителей. Фейербах многому научил Фрейда, как по сути, так и в отношении стиля: философ считал своей обязанностью разоблачать богословие, раскрывать его абсолютно земные корни, гнездящиеся в человеческом опыте. Богословие должно превратиться в антропологию. Строго говоря, Фейербах не был атеистом; он стремился скорее спасти истинную суть религии от теологов, чем уничтожить ее. Однако его учение и метод способствовали формированию атеистических взглядов. Смысл исследования религии, как он писал в своей самой знаменитой книге «Сущность христианства», впервые опубликованной в 1841 году, заключалась в уничтожении иллюзии, причем иллюзии разрушительной. Фрейд, который тоже стал считать себя разрушителем иллюзий, полностью согласился с этой позицией.
Фейербах был близок по духу Фрейду и в другом отношении: к большей части философии он относился так же критично, как к теологии. Фейербах предлагал свой способ философствования как полную противоположность «распада», абсолютного, нематериального, самодовольного умозрения. Фактически он признавал (или, скорее, объявлял), как впоследствии и Фрейд, что у него отсутствует «…формально философский, систематический, энциклопедическо-методологический» талант. Он стремился найти не системы, а действительность и даже не считал свою философию философией, а себя философом. Фейербах писал: «Я – только духовный естествоиспытатель» – geistiger Naturforscher. Точно так же мог бы охарактеризовать себя Зигмунд Фрейд.
Философские изыскания Фрейда, когда он был еще юным студентом университета, привели его в будоражащий и притягательный кружок философа Франца Брентано. Фрейд прослушал не менее пяти курсов лекций и семинаров, предлагавшихся этим чертовски умным, по его словам, парнем, этим гением, и искал с ним личных встреч. Брентано, бывший священник, являлся убедительным сторонником Аристотеля и эмпирической психологии. Одновременно верящий в Бога и уважавший Дарвина, он заставил Фрейда сомневаться в своих атеистических воззрениях, которые тот принес с собой в университет. «Теперь, – признавался Фрейд Зильберштейну, когда влияние Брентано было максимальным, – я больше не материалист, но еще не верующий». Однако Фрейд так и не обратился к Богу. В глубине души он был, как писал своему другу в конце 1874 года, безбожный студент-медик и эмпирик. Разобравшись с убедительными аргументами, которыми засыпал его Брентано, Фрейд вернулся к неверию и навсегда остался в этом убеждении. Однако Брентано способствовал развитию мышления Фрейда, а его работы по психологии оставили глубокий след в сознании молодого человека.
Вся эта интеллектуальная деятельность, похоже, была весьма далека от изучения медицины, но Фрейд, как будто плывший по течению, искал то, к чему стремилась его душа. Наследием этих лет стали не оставлявшие его всю жизнь сомнения относительно специализированного изучения медицины[20]. За исключением возможностей прослушать интересные лекции и выполнить увлекавшие исследования, достоинства медицинского образования, очевидно, казались Фрейду сомнительными. Но вот что касается профессоров… О таких учителях можно было только мечтать. В период пребывания Фрейда в Венском университете в качестве студента и исследователя медицинский факультет представлял собой избранное общество превосходных специалистов. Большинство его членов были немцами: Карл Клаус, возглавлявший Институт сравнительной анатомии, знаменитый физиолог Эрнст Брюкке и Герман Нотнагель, заведующий кафедрой медицины внутренних органов, были уроженцами Северной Германии и получили образование в Берлине, а Теодора Бильрота, знаменитого хирурга, талантливого музыканта-любителя и одного из ближайших друзей Брамса, переманили в Вену после заведования кафедрами в родной Германии и в Цюрихе. Эти профессора, светила в своих областях, создавали в провинциальной Вене атмосферу интеллектуальной исключительности и космополитической широты взглядов. Не случайно, что именно в эти годы медицинский факультет привлекал множество студентов из-за рубежа – из других европейских стран и из Соединенных Штатов. Американский невролог Генри Хан в неофициальном, но чрезвычайно информативном «Путеводителе по Европе для студентов-медиков» (Guide to American Medical Students in Europe), опубликованном в 1883 году, давал Вене наивысшую оценку. «Помимо преимуществ по части медицины, – писал он, – Вена приятный для жизни город». Хан восхвалял кафе, оперу, скверы, а также жителей – добросердечных, красивых, любящих удовольствия.
Фрейд во многом не согласился бы с этими пышными аттестациями. Он имел не самый приятный опыт общения с венцами, не слишком часто посещал кафе и редко ходил в оперу. Однако он с радостью присоединился бы к описанию медицинского факультета Венского университета как коллектива выдающихся личностей, специалистов с международным авторитетом. В глазах Фрейда профессора обладали еще одним достоинством: их не затронула антисемитская лихорадка, грязным пятном расползавшаяся по венской культуре. Их либерализм укреплял уверенность Фрейда в том, что он не пария. Нотнагель, на кафедре которого Фрейд стал работать вскоре после получения диплома, был открытым приверженцем либеральных взглядов. Неутомимый лектор, он в 1891 году основал Общество противодействия антисемитизму. Три года спустя лекции Нотнагеля были сорваны буйными студентами из числа антисемитов… Брюкке, не менее толерантный, чем Нотнагель, хотя и не такой общественно активный, дружил с евреями и, более того, был открытым сторонником политического либерализма, то есть разделял враждебное отношение Фрейда к Римско-католической церкви. Таким образом, у Фрейда были веские основания, причем не только научные, но и политические, чтобы вспоминать своих профессоров как людей, которых он мог уважать и с которых мог брать пример.
В начале лета 1875 года Фрейд удалился на некоторое расстояние от «отвратительной башни» собора Святого Стефана. Он отправился в долгожданное и много раз откладывавшееся путешествие – навестить своих сводных братьев в Манчестер. Англия уже много лет занимала его мысли. Фрейд с детства читал много английских авторов – эта литература ему очень нравилась. В 1873-м, за два года до знакомства со страной, он писал Эдуарду Зильберштейну: «Я читаю английские поэмы, пишу письма по-английски, декламирую английские стихи, слушаю английские описания и жажду английских новостей». Если это будет продолжаться, шутил Фрейд, то он подхватит английскую болезнь[21]. После визита к родственникам в Англию мысли о будущем занимали его не меньше, чем прежде. Англия нравилась ему гораздо больше, чем родина, говорил Фрейд Зильберштейну, несмотря на ее туман и дождь, пьянство и консерватизм. Эту поездку он будет помнить всю жизнь. Семь лет спустя в эмоциональном письме к невесте Фрейд вспоминал неизгладимые впечатления, которые привез с собой домой, разумное трудолюбие Англии и ее благородную преданность общему благу, не говоря уже о преобладающем на Британских островах упрямстве и обостренном чувстве справедливости их обитателей. Знакомство с Англией, писал он, оказало на его жизнь «решительное влияние».
Поездка помогла Фрейду сузить круг своих интересов. Английские научные труды, писал он Зильберштейну, работы Тиндаля, Хаксли, Лайеля, Дарвина, Томсона, Локьера и других, навсегда сделали его поклонником этой нации. Наибольшее впечатление на него произвели их последовательный эмпиризм и нелюбовь к напыщенной метафизике. «Я, – прибавил он, словно в запоздалом раздумье, – еще больше не доверяю философии». Постепенно идеи Брентано отходили на второй план.
Фактически Фрейд какое-то время почти не нуждался в философии. После возвращения он сосредоточился на работе в лаборатории Карла Клауса, который, будучи одним из самых успешных и плодовитых пропагандистов Дарвина на немецком языке, вскоре дал Фрейду возможность проявить себя. Клауса пригласили в Вену, чтобы модернизировать кафедру зоологии и поднять ее до уровня остальных кафедр университета, и он сумел собрать средства на опытную станцию морской биологии в Триесте. Часть пожертвований шла на гранты нескольким талантливым студентам, которые выполняли на станции детально разработанные исследования. Фрейд, который явно был на хорошем счету у Клауса, оказался среди первых, кому была предоставлена такая возможность, и в марте 1876 года он отправился в Триест. Поездка дала ему шанс познакомиться с культурой Средиземноморья, которую Фрейд впоследствии будет с неослабевающим удовольствием «исследовать» каждое лето. Его задание отражало давний интерес Клауса к гермафродитизму: проверить недавнее утверждение польского исследователя Симона Сирского о том, что ему удалось обнаружить у угря половые железы. Это было удивительное открытие – если оно подтвердится. Дело в том, как писал Фрейд в своем отчете, что, несмотря на бесчисленные попытки, предпринимаемые столетиями, молоки у угря обнаружить еще не удалось никому. Если Сирский прав, традиционный взгляд на угря как на гермафродита окажется безосновательным.
Первые усилия Фрейда были тщетными. «Все угри, которых я вскрывал, – признавался он в письме к Зильберштейну, – принадлежали к слабому полу». Однако не в каждом его письме речь шла о науке; Фрейд позволял себе интересоваться не только угрями, но и молодыми женщинами Триеста. Этот интерес, судя по письмам, был сдержанным, чисто академическим. Обнаруживая определенное беспокойство перед лицом соблазна, источаемого чувственными «итальянскими богинями», которых он встречал на прогулках, Фрейд описывает их внешность и косметику, но старается держаться отстраненно. «Поскольку людей вскрывать запрещено, – шутил он, пряча за смехом смущение, – я фактически не имел с ними никаких дел». С угрями у него получалось лучше: после двух поездок в Триест и вскрытия почти 400 рыб Фрейду удалось – частично, не окончательно – подтвердить вывод Сирского.
Это был достойный вклад в науку, но когда Фрейд впоследствии вспоминал свои первые попытки серьезного исследования, то отзывался о них с некоторым пренебрежением[22]. Оценивая свое интеллектуальное развитие, он мог быть крайне несправедливым к себе. Исследование половых желез угрей сформировало у Фрейда привычку к терпеливым и точным наблюдениям, то сосредоточенное внимание, которое он считал обязательным, когда выслушивал своих пациентов. Каковы бы ни были причины этого – из них нельзя исключить и определенную антипатию, – отзывы Фрейда о своей работе с Клаусом окрашены некоторой неудовлетворенностью, причем собой не в меньшей степени, чем другими. Удивительно, что в автобиографических заметках Фрейд ни разу не упомянул имя Клауса.
Совсем другими были его чувства к другому наставнику, великому Брюкке. «В физиологической лаборатории Эрнста Брюкке, – писал он, – я нашел наконец покой и полное удовлетворение». У Фрейда вызывали восхищение – и желание подражать – и сам мэтр Брюкке, и его ассистенты. Один из них, Эрнст фон Флейшль-Марксоу, блистательная личность, по словам Фрейда, даже удостоил его своей дружбы. Среди знакомых Брюкке он также нашел друга, который внес существенный вклад в развитие психоанализа: Йозефа Брейера, успешного, состоятельного, высокообразованного врача и выдающегося физиолога, который был на 14 лет старше его самого. Вскоре между ними установились самые лучшие отношения; Фрейд признал Брейера как своего очередного наставника и сделался постоянным гостем в его доме, причем дружил не только с самим Йозефом, но и с его женой Матильдой, очаровательной и по-матерински заботливой. И это не единственное, что дал Брюкке своему ученику. Шесть лет, с 1876-го по 1882-й, Фрейд работал в его лаборатории, решая задачи, которые ставил перед ним глубоко почитаемый профессор, к явному удовольствию последнего – и себя самого. Раскрывая тайны нервной системы, сначала низших рыб, затем человека, выполняя поручения и оправдывая надежды своего учителя, Фрейд был необыкновенно счастлив. В 1892 году, после смерти любимого наставника, Фрейд назвал своего четвертого ребенка Эрнстом, в честь Брюкке. Это была самая искренняя дань памяти, какую он только мог предложить. Для Фрейда Брюкке был и остался величайшим авторитетом из всех, кто когда-либо воздействовал на него.
Привязанность Фрейда к Брюкке выглядит сыновней, никак не меньше. И действительно, Брюкке был почти на 40 лет старше Фрейда, примерно таким же по возрасту, как его отец. Не подлежит сомнению также, что акт наделения одного человеческого существа характеристиками и значительностью другого может включать переходы гораздо более неправдоподобные, чем тот, благодаря которому Зигмунд Фрейд поставил Эрнста Брюкке на место своего отца Якоба. «Перенос», как назвал бы психоаналитик Фрейд это смещение глубоких чувств, был резким и всеобъемлющим. Однако непреодолимая привлекательность Брюкке в значительной степени определялась тем, что он не являлся отцом Фрейда. Его авторитет был заслуженным, а не дарованным случайностью рождения, и на чрезвычайно важной жизненной развилке, когда Фрейд готовился стать профессиональным исследователем человеческих тайн, такой авторитет был ему необходим. Якоб Фрейд отличался общительностью и жизнерадостностью. Мягкий и покладистый, он словно приглашал к неповиновению. В отличие от него Брюкке был сдержанным, точным вплоть до педантичности, суровым экзаменатором и требовательным начальником. Якоб Фрейд любил читать и обладал определенной эрудицией, характерной для евреев. Брюкке был в высшей степени разносторонним человеком: талантливый художник, он всю жизнь сохранял глубокий, совсем не дилетантский интерес к эстетике и облагораживающе влиял на своих учеников[23]. А одной внешней чертой, глазами, Эрнст Брюкке был поразительно похож на самого Фрейда – но не на его отца. Все знакомые, независимо от того, насколько отличались их описания Зигмунда Фрейда, обязательно отмечали его внимательные глаза, которые словно видели человека насквозь. У Брюкке был такой взгляд, который часто появлялся в сновидениях Фрейда. В одном из снов, так называемом Non vixit, который подробно анализируется в «Толковании сновидений», Фрейд взглядом «убивает» соперника. В результате самоанализа он приходит к выводу, что это искаженные воспоминания реального события, в котором именно Брюкке, а не Фрейд взглядом уничтожает собеседника: «Я был демонстратором в физиологическом институте и должен был являться туда рано утром к началу занятий. Узнав, что я несколько раз опоздал в лабораторию, Брюкке явился туда пунктуально и подождал меня. Когда я явился, он холодно и строго прочел мне нотацию. Дело не в словах, а в том взгляде, с которым были обращены на меня его страшные синие глаза и пред которым я стушевался». Всякий, продолжает Фрейд, кто помнит изумительные – даже в глубокой старости – глаза великого ученого и кто видел его когда-нибудь в гневе, легко сможет понять чувства юного грешника. Брюкке дал Фрейду, юному грешнику, идеал профессиональной самодисциплины в действии.
Философия науки, которую исповедовал Эрнст Брюкке, оказала на Фрейда не меньшее влияние, чем его профессионализм. Он был позитивистом по характеру и по убеждению. Позитивизм представлял собой скорее не упорядоченное философское направление, а всеобъемлющий подход к человеку, природе и методам исследования. Его приверженцы надеялись применить подход естественных наук, вместе с их открытиями и методами, ко все мыслям и поступкам человека, частным и публичным. Например, для такого склада ума характерны взгляды Огюста Конта, жившего в начале XIX века, пророка позитивизма в его самой крайней форме, который считал возможным изучение человеческого общества на надежной основе, ввел термин «социология» и определил эту науку как своего рода социальную физику. Позитивизм, зародившийся в XVIII столетии, в эпоху Просвещения, и отвергавший метафизику почти с такой же решительностью, как теологию, в XIX веке пережил расцвет, основой которого стали впечатляющие достижения физики, химии, астрономии – и медицины, конечно. Брюкке был самым видным представителем этого направления мысли в Вене.
Он привез свой уверенный и амбициозный научный стиль из Берлина. Там в начале 40-х годов, будучи еще студентом медицинского факультета, он присоединился к своему блестящему коллеге Эмилю Дюбуа-Реймону, открыто объявив мусорной кучей предрассудки всего пантеизма, всю мистику природы, все разговоры об оккультных божественных силах, проявляющихся в природе. Витализм, романтическая философия природы, в то время популярная среди естествоиспытателей, с его туманными поэтичными рассуждениями о загадочных внутренних силах, вызывал у них неприятие, будил в них желание страстной полемики. Лишь обычные физико-химические силы, утверждали они, активны в организме. К необъяснимым явлениям следует подходить только с физико-математическим методом или с предположением, что если материи присущи какие-то «новые» силы, то их можно свести к составляющим притяжения и отталкивания. Их идеалом исследователя, по словам Дюбуа-Реймона, был естествоиспытатель, свободный от теологических заблуждений. Их школа окончательно сформировалась после того, как к ним присоединился «человек Возрождения» XIX века Герман Гельмгольц, находившийся на пути к мировой славе за вклад в развитие необыкновенно широкого диапазона областей знания – оптики, акустики, термодинамики, биологии. Влияние этой школы быстро распространялось, и остановить процесс было уже невозможно. Ее члены и приверженцы занимали престижные должности в ведущих университетах и задавали тон в научных журналах. Когда Зигмунд Фрейд учился в Вене, там его задавали позитивисты.
Ближе к концу 1874 года у Фрейда возник план поехать непосредственно к источнику этого движения и провести зимний семестр в Берлине, где он собирался посещать лекции Дюбуа-Реймона, Гельмгольца, а также знаменитого патолога – и прогрессивного политического деятеля – Рудольфа Вирхова. От этой перспективы, писал Фрейд Зильберштейну, он радовался как ребенок. В конечном счете из его затеи ничего не вышло, но Фрейд мог найти первоисточник и дома. В том самом году Брюкке ясно и подробно сформулировал свои принципы в курсе, который в 1876 году будет опубликован под названием «Лекции по психологии». Они явились воплощением медицинского позитивизма в его самой материалистической форме: все естественные явления, утверждал Брюкке, относятся к явлениям движения. Естественно, Фрейд слушал эти лекции, причем очень внимательно. И действительно, его преданность сформулированным Брюкке основам науки пережила поворот от физиологического к психологическому объяснению психических явлений. Когда в 1898-м, через четыре года после смерти Гельмгольца, друг Фрейда Вильгельм Флисс посылал ему в качестве подарка на Рождество двухтомник лекций этого великого ученого, он знал, как много эти книги значат для Фрейда[24]. Тот факт, что будущий основатель психоанализа применит принципы своего наставника так, как Брюкке не мог и предположить и вряд ли бы искренне приветствовал, нисколько не уменьшает долг Фрейда перед ним. Для Фрейда Брюкке и его выдающиеся коллеги были избранными наследниками философии. Фрейд не уставал повторять, что у психоанализа нет собственного мировоззрения и что оно никогда не будет выработано. Это был его способ по прошествии многих лет отдать дань уважения своим учителям-позитивистам: психоанализ, заключил он в 1932 году, является наукой, и может придерживаться научного мировоззрения. Другими словами, психоанализ, подобно другим наукам, ставит своей целью выявление истины и разоблачение иллюзий. Эти слова мог бы сказать сам Эрнст Брюкке.
Самоуверенность Брюкке и группы разделявших его взгляды коллег усиливалась опорой на эпохальные труды Дарвина. В начале 70-х годов XIX столетия теория естественного отбора считалась – несмотря на многочисленных влиятельных сторонников – спорной и еще не избавилась от пьянящего аромата сенсационности и опасной новизны. Дарвин решился поместить человека в животное царство и вызвался объяснить его появление, выживание и разностороннее развитие исключительно земными причинами. Силы, приводящие к изменениям естественного порядка живых существ, которые Дарвин раскрыл перед изумленным миром, не нуждались в том, чтобы их приписывали божеству, даже самому далекому. Все это было работой слепых, противоборствующих земных сил. Как зоолог, изучающий половые железы угрей, как физиолог, исследующий нервные клетки речных раков, и как психолог, анализирующий человеческие чувства, Фрейд занимался одним делом. Скрупулезная гистологическая работа, которую он выполнял для Брюкке, была частью коллективных усилий, призванных продемонстрировать следы эволюции. Дарвин для него никогда не переставал быть «великим Дарвином», и биологические исследования привлекали Фрейда больше, чем лечение пациентов. Он готовил себя именно к этому призванию, как сам писал другу в 1878 году, – предпочитал «терзать животных» вместо того, чтобы «мучить людей».
Исследования Фрейда были очень успешными. Некоторые из его первых опубликованных работ, написанных в период с 1877 по 1883 год, содержат открытия, которые никак не назовешь незначительными. Они подтверждали эволюционный процесс в нервной системе рыб, которых Фрейд исследовал под микроскопом. Более того, оглядываясь назад, можно понять, что эти статьи стали начальным звеном в цепочке идей, приведших к созданию научной психологии, первый набросок которой он сформулировал в 1895 году. Фрейд работал над теорией, описывающей, каким образом нервные клетки и нервные волокна функционируют как одно целое. Затем он занялся другими проблемами, и, когда в 1891-м Вильгельм Вальдейер опубликовал свою эпохальную монографию о теории нейронов, первенство Фрейда в данной области было проигнорировано. «Этот случай далеко не единственный, – писал Эрнест Джонс, – когда молодой Фрейд прямо из рук упускал мировую славу, так как еще не осмеливался довести свои мысли до их логического завершения».
Фрейд жил дома, но мыслями пребывал в лаборатории Брюкке. Под началом учителя он буквально расцвел. В 1879–1880 годах ему пришлось ненадолго прерваться из-за призыва на воинскую службу. Эта повинность состояла из лечения больных солдат и скуки. Офицеры с похвалой отзывались о поведении Фрейда. Они характеризовали его как достойного и энергичного, очень активного и добросовестного, с твердым характером, считали чрезвычайно надежным, а также гуманным по отношению к пациентам. Фрейд, который находил свой вынужденный перерыв в работе чрезвычайно утомительным, в свободное время, которого было немало, переводил четыре очерка из сборника трудов Джона Стюарта Милля. Редактор немецкого издания Милля, известный австрийский филолог и историк античной философии Теодор Гомперц, стремился расширить число своих переводчиков, и такая возможность представилась ему благодаря знакомству Фрейда с Брентано, которого он и порекомендовал Гомперцу.
Тем не менее завершение формального образования замедлила не столько служба в армии, сколько увлеченность Фрейда исследованиями; диплом об окончании университета он получил лишь в 1881 году. Новое звание почти ничего не изменило в его жизни: по-прежнему надеясь снискать славу на полях научных исследований, Фрейд остался с Брюкке. Так продолжалось до лета 1882-го, когда он по совету учителя покинул тихую заводь лаборатории и поступил на должность помощника врача в клиническую больницу Вены. Официальной причиной такого шага была бедность, но это лишь одна из причин. Да, бедность волновала Фрейда куда больше, чем прежде. В апреле 1882 года он познакомился с Мартой Бернайс, которая приехала к одной из его сестер. Гостья оказалась стройной, живой, темноволосой и белокожей, с выразительными глазами – очень привлекательной. Зигмунд сразу же влюбился, как это бывало с ним и раньше. Но Марта Бернайс была другой. Настоящей, а не выдуманной, совсем не похожей на еще одну Гизелу Флюс, предмет молчаливого подросткового обожания. Она была достойна того, чтобы ради нее работать, достойна того, чтобы ее ждать.
18
Фрейд вспомнил эту сцену в анализе своего сна о графе Туне. Как справедливо указывали комментаторы, там все невероятно запутано. Вполне возможно, что Фрейд вторгся в спальню родителей из-за сексуального любопытства, а мочеиспускание стало результатом волнения. Показательно, что в 1924 году мэтр добавил комментарий о том, что ночное недержание мочи, которое временами случалось у него до двух лет и с которым он связывал эпизод в спальне, ассоциируется с честолюбием как с чертой характера. (См.: Interpretation of Dreams, SE IV, 216.) Лучшее изложение см.: Anzieu D. Freud’s Self-Analysis (2d ed., 1975; tr. Peter Graham, 1986), 344–346. Авт.
19
Незадолго до Рождества 1923 года Фрейд прочитал сигнальный экземпляр своей биографии, написанной Фрицем Виттельсом, и снабдил ее комментариями. Рассказывая о молодости Фрейда, Виттельc писал: «Его судьба как еврея в немецкой культурной зоне с ранних лет заразила его чувством неполноценности, которого не мог избежать ни один немецкий еврей». На полях Фрейд поставил «!» – знак категорического несогласия. Вполне возможно, его заявление, что он никогда не считал себя неполноценным, было косвенным ответом на описание Виттельса. (См. принадлежавший Фрейду экземпляр книги Виттельса «Зигмунд Фрейд», с. 14–15. Музей Фрейда, Лондон.) Авт.
20
Этот подход был важной составляющей его аргументов в пользу анализа, проводимого дилетантами. Авт.
21
Английской болезнью – die englische Krankheit – немцы называли рахит. Авт.
22
Когда в 1936 году швейцарский психиатр Рудольф Брюн попросил Анну Фрейд прислать несколько ранних работ мэтра по неврологии, она ответила, что ее отец довольно низко оценивал их: «Он полагает, что вы будете разочарованы, прочтя их» (Анна Фрейд Рудольфу Брюну, 6 марта 1936. Freud Collection, B1, LC).
Существует соблазн рассматривать исследование угрей, выполненное Фрейдом, как одно из первых проявлений его интереса к сексуальности. Но эта гипотетическая реконструкция развития его личности подобна утверждению о глубоком смысле того факта, что Фрейду, открывшему эдипов комплекс, на выпускном экзамене в гимназии предложили перевести 33 стиха из «Царя Эдипа» Софокла. И то и другое было заданием преподавателя. Авт.
23
Во время своих ежедневных обходов лаборатории в Вене, как отмечала историк венской медицинской школы Эрна Лески, Брюкке вел себя не только как преподаватель физиологии, но и как представитель общей культурной идеи. (См.: Lesky E. The Vienna Medical School of the 19th Century [1965; tr. L. Williams and I. S. Levij, 1976], 231.) Авт.
24
То, что это был подарок к Рождеству, ярко характеризует истинное отношение Фрейда к иудаизму. Авт.