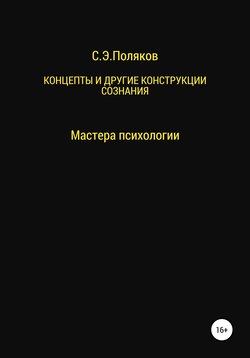Читать книгу Концепты и другие конструкции сознания - Сергей Эрнестович Поляков - Страница 8
Часть I
Понятия и концепты
Глава 1.1
Чувственный уровень репрезентирования реальности
1.1.2. Чувственное репрезентирование реальности
§ 4. Соотношение репрезентации и предмета
ОглавлениеВсе предпринятые на протяжении последних веков многочисленные попытки разделить физическое и психическое завершились полным провалом. С. Л. Франк (1995, с. 77) пишет, что теория дуалистического реализма возникла, когда заметили, что воспринимаемое есть нечто идеальное, данное в акте познания. При этом сам предмет мыслился независимым от его восприятия. Это могло быть истолковано только одним способом: восприятие предмета есть точное отображение, копия самого предмета.
Автор (с. 78) указывает, что нам дан только образ восприятия, но наш здравый смысл умудряется удвоить его, превратив в предмет и образ предмета. Автор говорит о возникновении неизбежной дилеммы: «… Либо в восприятии нам вообще дан не “сам предмет”, а только его образ, так что все, что мы противопоставляем “образу” в качестве самого предмета, или вообще есть нечто невозможное, или же, поскольку оно возможно, есть тоже только образ, – либо же нам каким-либо образом доступен или дан сам предмет и у нас нет и нам не нужно никакого образа, который духовным воспроизведением предмета делал бы его доступным нам» (там же).
Мне представляется очевидным, что дуализм появился в результате осмысления человеком одновременного наличия в его сознании образов представления и воспоминания предмета наряду с образами восприятия того же предмета. Б. Рассел (2001а, с. 247) тоже говорит, что, обсуждая «коренное различие между духом и материей», люди в действительности имеют в виду различие между зрительными или осязательными восприятиями и «мыслью» в виде воспоминания, чувства удовольствия или волнения. То есть они имеют в виду различия внутри мира сознания, так как восприятия являются такими же психическими явлениями, как и «мысль». Ж.-Ф. Лиотар (2001, с. 64) тоже полагает, что дело здесь в психической феноменологии.
Данная проблема, впрочем, настолько сложна, что даже великие порой терялись в ее лабиринтах. Например, Э. Шредингер (2005, с. 85–88) отмечает противоречия в высказываниях самого Б. Рассела по этому вопросу.
Я полагаю, что нас сильно запутала декартовская парадигма. Декартовская парадигма (а его дуализм материи и сознания – именно парадигма) – это глобальная концептуализация реальности, которая рассекла в XVII в. человеческую реальность на две половины. Все следующие века она определяла пути развития гуманитарных наук. Правильнее даже сказать – науки вообще. Мы и сейчас дуалисты, хотя уже начали осознавать, что эта парадигма неверна и ее следует менять.
Многие исследователи сегодня искренне декларируют отказ от декартовского дуализма. Но заявления ничего не меняют. Чтобы на самом деле отказаться от него, надо радикально изменить собственные представления о реальности, так как идеи Р. Декарта по-прежнему составляют базис нашего мировоззрения, хотя мы чаще даже не отдаем в полной мере себе в этом отчета. Идеи о необходимости разделения реальности на психическое и физическое настолько глубоко проникли в наши представления о мире, что мы не можем просто заявить об ошибочности теории Р… Декарта. Я и сам, утверждая о неправомерности деления на психическое и физическое, постоянно пишу о физической и психической реальности. Что это, как не декартовский дуализм, сохраняющийся в моей концептуализации мира?
Смена дуалистической парадигмы – это титаническая работа, которую следует провести во всех областях науки с радикальной ревизией основных концептов в каждой из них. Для начала возможно надо отказаться от глобального концепта физическое, заменив его иным – например, чувственно репрезентируемое или воспринимаемое… Я пытаюсь сделать это ниже. Отказаться и от старого концепта психическое, резко расширив его для охвата реальности вообще. Я уверен, что работа по замене этих глобальных концептов и их производных приведет к решению множества неразрешимых пока вопросов, существовавших веками в каждой науке, и обнаружению выходов из множества тупиков.
Как следует объяснять или хотя бы описывать соотношение «реальности в себе» и человеческих репрезентаций этой реальности?
Множество авторов безуспешно пытались ответить на этот вопрос… Вполне понятны попытки здравого смысла отождествить чувственные репрезентации с окружающей реальностью, которую они репрезентируют. Г. Вейль (2004, с. 12–13) пишет, что, обладая натуралистической установкой, которой мы руководствуемся в нашей обыденной жизни, мы противопоставляем свое восприятие вещей самим физическим вещам… Мы приписываем вещам реальное существование и считаем их в основном такими (так устроенными, так окрашенными и т. д.), какими они нам являются в нашем восприятии.
Анализ нашего восприятия, однако, убеждает нас в том, что человеческое сознание не просто не копирует «реальность в себе», но создает нечто весьма отличное от нее (подробнее об этом см., например: С. Э. Поляков, 2011, с. 127–160). Причем именно это созданное сознанием нечто мы и считаем физической предметной реальностью. То, что наши чувственные репрезентации не являются ни «отражениями», ни «копиями» объектов физического мира, было очевидно выдающимся мыслителям еще в античности. Например, А. Эйнштейн (2008) цитирует Демокрита: «Условно сладкое, условно горькое, условно горячее, условно холодное, условен цвет. …Объекты чувств предполагаются реальными, и в порядке вещей рассматривать их как таковые, но на самом деле они не существуют. Реальны только атомы и пустота» (с. 166).
Э. фон Глазерсфельд[20] пишет, что аргумент Секста Эмпирика уже более 2000 лет не дает философам покоя. Секст Эмпирик рассматривает восприятие яблока, которое наши органы чувств репрезентируют как гладкое, ароматное, сладкое и желтое. Но не факт то, что оно в действительности обладает этими свойствами. Мы лишь способны сравнить ощущение, вызываемое яблоком, с другими своими ощущениями.
Тем не менее большинство исследователей предпочитают отождествлять репрезентации реальности с окружающим миром. На протяжении веков соотношение предмета и его репрезентации рассматривали как отношения реальности и картины или реальности и чего-то вроде ее психической копии. Х. Патнэм (2002, с. 80–81) пишет, что уже приблизительно 2000 лет существует форма корреспондентской теории истины, которую античные и средневековые философы приписывают Аристотелю. Автор называет ее теорией референции как подобия. Согласно ей отношение между внешними объектами и их репрезентациями представляет собой буквальное подобие. Х. Патнэм указывает, что лишь в XVII в. эта теория стала сдавать свои позиции.
Получается, что изоморфизм объекта и образа его восприятия восходит к Аристотелю. И до сих пор отнюдь не все исследователи готовы признать, что психика не «отражает» окружающую реальность «как зеркало». Что она сложным непрямым образом репрезентирует «реальность в себе», и репрезентации эти не только не являются копиями «реальности в себе», но и вообще как-то сложно и не вполне понятно лишь соотносятся с миром кантовских «вещей в себе». Тем не менее представления об изоморфности сохраняются, несмотря на то что множество выдающихся ученых убедительно доказывали отсутствие изоморфизма «реальности в себе» и ее образов, возникающих в человеческом сознании.
Г… Гельмгольц (1999, с. 37), например, полагает, что представление (то есть чувственная репрезентация – Авт.) и объект принадлежат к двум совершенно разным мирам, которые так же не допускают сравнения друг с другом, как цвета и звуки или буквы в книге и звучания слов, которые они обозначают. Автор склонен считать чувственные репрезентации символами, или знаками, предметов. По его мнению (с. 36–37), нет смысла говорить о какой бы то ни было истинности наших представлений, кроме практической. Вопрос об истинности представления о столе (его форме, твердости, цвете, тяжести и т. д.) независимо от его практического использования бессмыслен. Как и вопрос о том, какой цвет имеет данный звук – красный, желтый или синий. Г. Гельмгольц замечает: «То, что представления не равны вещам, заложено в природе нашего знания» (с. 40).
Можно ли вслед за автором считать чувственные репрезентации символами физических вещей? Я полагаю, что нет. Во-первых, потому что без репрезентаций нет «физических вещей». Во-вторых, чаще всего понятие символы используется применительно к словам языка, и речь тогда идет уже о вербальных репрезентациях предметов. Невербальные символы – это чувственные репрезентации дополнительных предметов, которые замещают собой чувственные репрезентации основных (более важных для людей) предметов (подробнее см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 141–143).
Б. Рассел (2001а, с. 213) вообще полагает, что между нашими восприятиями и их внешними причинами так мало сходства, что трудно понять, как из восприятий можно получить знание о внешних объектах. По его (2009, с. 52) мнению, даже если физические объекты имеют независимое от чувственных данных существование, они соответствуют друг другу, как каталог вещей самим вещам. Мы не знаем ничего по поводу истинной, внутренне присущей физическим объектам природы. И если найдутся существенные доводы в пользу их ментальной природы, то нельзя отвергать этот взгляд на том основании, что он странен.
Один из основоположников радикального конструктивизма Э. фон Глазерсфельд замечает[21], что наше знание не может интерпретироваться как изображение, скорее его можно сравнить с ключом, открывающим один из возможных путей. И если в традиционной теории познания и в когнитивной психологии соотношение знания и действительности трактуется как в большей или меньшей мере образное (иконическое) соответствие, то радикальный конструктивизм придает ему значение приспособленности в функциональном смысле.
Применительно к отношениям предмета и образа его восприятия со второй половины XX в. вместо понятий копирование и отражение все шире используют понятие соответствие. Э. фон Глазерсфельд (там же) сравнивает понятия соответствует и подходит. Первое, по его мнению, означает, что нечто передает изображаемое и в какой-то мере является с ним однообразным. Конкретные свойства, по которым устанавливается однообразие, могут меняться от случая к случаю. Нередко не играют никакой роли размер, вес, цвет либо расположение в пространстве и времени; и все же в таких случаях говорят о точной передаче, воспроизводстве пропорции, порядка либо основного плана строения. Это называют гомоморфизмом.
По словам автора, в господствующих теориях познания мы постоянно находим явные или подразумеваемые указания на то, что наши знания гомоморфно отображают независимый и самодостаточный мир хотя бы в каком-то одном аспекте. Когда мы говорим, что нечто «подходит», то имеем в виду лишь то, что это нечто справляется с возложенным нами на него назначением. Ключ, например, подходит, если отпирает замок. Понятие пригодности относится к ключу, но не к замку. В качестве метафоры Э. фон Глазерсфельд вспоминает о профессиональном взломщике, имеющем множество разных ключей, которые тем не менее открывают нашу дверь. С точки зрения радикального конструктивизма мы, живые существа, соотносимся с окружающей средой в такой же мере, как взломщик с замком, который он должен отпереть, чтобы добраться до добычи.
В. А. Иванников (2010, с. 37), обсуждая вопрос о степени соответствия образа объекта самому объекту, рассматривает три ответа на этот вопрос: 1) наши образы – чисто субъективные образования, за которыми не стоит никакой реальности; 2) психика – система символов, знаков, иероглифов, кодов внешнего мира, между ней и миром существуют изоморфные[22] отношения, но психика ничего не говорит о мире; 3) психические образы – более или менее верное отражение объектов внешнего мира, то есть психика – это адекватное знание о мире.
Автор полагает, что первое положение доказывается, например, так: галлюцинации для больного – такая же реальность, как нормальные образы внешнего мира. Второе утверждение основывается на наличии иллюзий и на несовпадении ощущений с воздействиями внешнего мира… Так, ощущение звука или красного цвета не совпадает с сущностями внешнего мира (колебаниями воздуха или электромагнитными излучениями). Третье утверждение доказывается тем, что наши образы адекватны окружающему миру, поэтому мы не садимся мимо стула, не наталкиваемся на стены и обходим деревья и лужи как реально существующие объекты. В. А. Иванников (2010, с. 32) считает, что психика является одной из форм отражения.
В отечественной психологии доминирует точка зрения здравого смысла, восходящая к Аристотелю и Р. Декарту: есть физические объекты (пусть даже они и представляют собой «вещи в себе», тем более что никто не знает, что это такое) и есть психические образы их восприятия, или их репрезентации. Странно, что противоречивость и неясность этих доминирующих в психологической литературе представлений не привлекает к себе внимания исследователей. Например, с одной стороны, считается, что образ восприятия, или перцептивная репрезентация предмета, – это психический феномен. Но тогда, как и все ментальные феномены, он существует в особом психическом пространстве восприятия. С другой стороны, принимается как очевидность, что одновременно с последним вокруг нас существует еще реальное физическое пространство, заполненное предметами (пусть даже они называются «вещами в себе»), которое мы воспринимаем. Сущности удваиваются, при этом не обсуждается, как соотносятся психическое пространство восприятия и физическое предметное пространство[23].
Я не встречал серьезных возражений психологов против теории И. Канта (1994, с. 205–206) или следующих из нее очевидных выводов о том, что в окружающем мире без человека нет предметов или вещей, а есть лишь нечто называемое «вещами в себе». Только некоторые исследователи задумываются над тем, что «вещь в себе» – это и не вещь вовсе. С. Л. Франк, например, говорит, что понятие трансцендентного предмета, непознаваемой вещи в себе подлежит устранению.
Сам И. Кант так и не объяснил, что же он понимает под своей «вещью в себе». Э. Шредингер (2000) пишет: «…Кант шокировал нас полным отказом: мы никогда не узнаем абсолютно ничего о его “вещи в себе”» (с. 49).
Добавлю, что из-за этой недосказанности возникло множество неясностей, сохраняющихся до сих пор. Г. Г. Шпет (2010, с. 116), например, считает «вещь в себе» предметом, а мы постоянно сталкиваемся сейчас в литературе с попытками «удвоения», а то и «утроения» сущностей. Кроме «вещи в себе» и вещи в форме психической репрезентации этой самой «вещи в себе», в окружающем мире появляется и более понятная здравому смыслу третья вещь – предмет. И все же вещь, как можно заключить из теории И. Канта, появляется лишь в сознании человека.
Повторю, что кантовская «вещь в себе» – это вовсе не предмет, к которому мы привыкли. Это непонятное и почти трансцендентное, то есть недоступное нам никак, кроме как в форме наших же психических репрезентаций, нечто, которое превращается в предмет лишь в процессе взаимодействия с человеческим сознанием и лишь для него. Именно сознание трансформирует в предмет это амодальное, аморфное нечто[24]. Следова-тельно, вне сознания нет предмета, а есть лишь фрагмент кантовской почти трансцендентной «реальности в себе».
С. Л. Франк (1995, с. 86) пишет, что человеческое сознание не копирует предмет, а «некоторым образом владеет “самим предметом”, объемлет его и включает в себя», «предмет есть особый момент в строении самого сознания». Далее автор (с. 87), однако, высказывает мысль о том, что «сознание включает в себя черту объективности или “предметности”», и предлагает «расширить сознание до пределов всего мыслимого бытия».
Скажу еще определеннее: там нет дублера предмета, а есть сам единственный и отсутствующий где-либо еще оригинал, то есть сам предмет… Перефразируя У. Оккама (цит. по: Смирнов, 2010, с. 142), напомню, что не следует умножать сущности без нужды. В окружающем мире есть нечто, взаимодействующее с нашим телом, в результате чего в нашем сознании возникает антропоморфная репрезентация этого нечто, отличающаяся сущностно от того, что есть вне нас. Но именно она и является для нас предметом, который мы считаем частью окружающего физического мира.
Повторю, что психическая репрезентация, данная нам в виде предмета, сущностно отличается от «вещи в себе». Так, ощущение красного или зеленого цвета – это не электромагнитные волны. Но для нас именно наша психическая репрезентация становится настоящим и единственным предметом физического мира. Общим для «вещи в себе» и ее репрезентации в сознании является лишь понятие вещь, которое и вводит нас в заблуждение. Правильнее было бы поэтому «вещь в себе» называть, например, частью «реальности в себе», так как она еще и не вещь вовсе. В вещь же превращается лишь ее чувственная репрезентация в сознании, конституированная к тому же понятием, обозначающим данную вещь.
Этот мой, кажущийся новым вывод на самом деле совсем не нов… Э. Шредингер (2000), например, пишет: «Мир дается мне лишь единожды, а не один существующий и один воспринимаемый» (с. 50). «Разум построил объективный окружающий мир философа-натуралиста из своего собственного материала. Разум не мог справиться с этой гигантской задачей, не воспользовавшись упрощающим приемом, заключающимся в исключении себя – отзыве с момента концептуального создания. Поэтому последний не содержит своего создателя» (с. 42–43).
Добавлю: не только «не содержит создателя», но и создатель не понимает, что создает окружающий мир из элементов самого себя. Но здесь не следует впадать в другую крайность, утверждая, что такая позиция есть отказ от реальности внешнего мира. Вовсе нет. Странно даже сомневаться в том, что «реальность в себе» существует вокруг нас и мы от нее полностью зависим.
У образов восприятия есть еще одна важная особенность. Со времен Р. Декарта и даже раньше принято полагать, что содержание сознания идеально и противостоит материальному миру. Это положение опроверг нейтральный монизм, основоположником которого следует, видимо, считать У. Джеймса, так как у Э. Маха, во-первых, своя оригинальная «теория элементов», тесно смыкающаяся с монизмом, а во-вторых, я находил в его работах ссылки на У. Джеймса, свидетельствующие о том, что Э. Мах, который даже посвящал свои книги У. Джеймсу, скорее просто охотно согласился с теорией своего американского коллеги. К монистам следует отнести и Г. Геффдинга с Р. Авенариусом, о которых упоминает Э. Мах (2003, с. 46).
У. Джеймс (1997, с. 362–363) предлагает рассмотреть в двух аспектах комнату, в которой вы сидите с книгой. Сначала как коллекцию физических вещей, выделенных из окружающего их мира других вещей… А потом как то, что воспринимает сейчас ваш разум. В итоге реальность, кажущаяся единой, занимает два места: одно – во внешнем пространстве, а другое – в вашем уме. В одном случае одна и та же комната с вещами будет вашим «полем сознания». В другом – предметом, в котором вы находитесь. Причем в оба контекста комната входит целиком, так что нельзя сказать, будто она принадлежит сознанию одной своей частью, а внешней реальности – другой.
Таким образом, в зависимости от того, в какую психическую конструкцию, созданную нашим сознанием, входит наше актуальное психическое содержание, то есть образы восприятия и ощущения, их можно рассматривать либо как содержание сознания (психические репрезентации предметов), либо как внешний физический мир (сами предметы). Образы восприятия являются в результате одновременно и нашими психическими явлениями (содержанием нашего сознания), и вещами. Эту странную двойственность образов восприятия У. Джеймс (1997) достаточно убедительно разъясняет. Автор даже пробует распространить в своей книге те же закономерности на прочие психические явления, в том числе и на понятия.
Он полагает, что «любой единичный неперцептуальный опыт может, подобно перцептуальному опыту, быть рассмотрен дважды». Как физический объект или совокупность объектов в одном контексте и как состояние ума – в другом. В одном контексте «неперцептуальный опыт» представляет собой, по его (с. 365) мнению, целиком сознание; в другом – его содержание. Причем нигде не замечается никакого внутреннего саморазделения на сознание и содержание сознания.
Можно, однако, возразить автору, что содержание сознания не всегда репрезентирует физическую реальность, а часто – и вовсе не ее. Тут в рассуждениях У. Джеймса (1997) есть слабое место, которое, впрочем, он и сам замечает: «Пока все чрезвычайно ясно, но мое положение, вероятно, покажется читателю менее убедительным, когда я перейду от восприятия к понятиям или от вопроса о наглядно представимых вещах к вещам, непосредственно нами не воспринимаемым» (с. 364).
И он совершенно прав. Более того, к понятиям он так и не перешел, потому что не смог бы доказать применительно к ним свою точку зрения, ибо многое из того, что обозначается понятиями, просто невозможно найти в окружающей физической реальности или отнести к ней явно. Следовательно, понятия не могут, как образы восприятия, в разных контекстах выступать то психическими, то физическими сущностями. Меня здесь интересует не то, насколько был не прав этот замечательный мыслитель, пытаясь распространить свою теорию на понятия, а то, насколько он был прав, рассматривая образы восприятия в зависимости от контекста то как явления сознания, то как физические явления.
Б. Рассел тоже принимает постулаты монизма. Он (2009, с. 237) соглашается с У. Джеймсом и пишет (с. 214), что нет такой простой сущности, на которую вы могли бы указать и сказать, что она является физической, а не ментальной. Сам он (1999, с. 121) вообще считает, что мир состоит не из вещей, а из событий. Если причинно-следственные взаимосвязи одного рода, то соответствующая группа событий может быть названа физическим объектом, а если они другого рода, то соответствующая группа событий может быть названа сознанием. Любое событие, проистекающее в голове человека, будет принадлежать к группам обоих видов. Сознание и материя являются просто удобными способами организации событий.
Г. Г. Шпет (2010, с. 179–180) указывает, что никакой принципиальной разницы между психическими и физическими явлениями не существует.
Итак, казалось бы, монизм преодолел пропасть между психическим и физическим, доказав, что образ восприятия превращается то в психическое содержание человеческого сознания, то в физический предмет в зависимости от плоскости, в которой мы его рассматриваем. Однако, как это ни парадоксально, открытие монистов мало повлияло на доминирующие не только в естественных науках, но даже в психологии дуалистические представления, а сама теория была фактически проигнорирована.
В своей экологической теории прямого восприятия Дж. Гибсон (1988, с. 336–374) тоже пытается, как мне представляется, отождествлять репрезентации с предметами, хотя этот аспект проблемы он нигде прямо не обсуждает.
Несмотря на то что наука так и не нашла достоверных различий между психическими и физическими явлениями[25], наш здравый смысл не готов отказаться от привычной дуалистической картины мира. Тем не менее нельзя не признать доводы монизма (см. У. Джеймс (1997, с. 362–363)), который доказал, что образы восприятия трансформируются в физические объекты и наоборот в зависимости от контекста. То есть заставил нас задуматься об ошибочности дуалистической теории. Продолжим рассуждения.
Получается, что если образ восприятия это и есть физический предмет, то сознание выстраивает и психические, и физические сущности… Этот вывод порождает неожиданную мысль: сознание способно, репрезентируя «реальность в себе», чувственно конституировать своими психическими средствами физические сущности – предметы. Следовательно, сознание – это не просто и не только нечто психическое. И либо оно формирует и психическую, и предметную физическую реальность, либо такое разделение неадекватно.
Попробуем замкнуть логическую цепь и начать на практике разрушение дуалистической парадигмы.
В «реальности в себе» нет предметов и явлений, их свойств и действий. Она внечувственна, то есть без человека или другого существа, наделенного сознанием, невидима, безмолвна, не имеет запаха, вкуса, температуры, шероховатости или гладкости и других чувственных качеств. «Реальность в себе» доступна человеческому познанию лишь в форме его же чувственных либо символических репрезентаций. В результате взаимодействия с «реальностью в себе» сознание строит в себе самом, но в месте локализации «реальности в себе» свою психическую по механизмам формирования, но физическую по форме предметную реальность, которую здравый смысл привычно и обоснованно заставляет нас считать окружающим предметным физическим миром.
Еще классическая психология установила, что формируемые сознанием чувственные репрезентации «реальности в себе», или образы восприятия предметов, обладают всеми свойствами предметов: предметностью, реальностью, полнотой или завершенностью, целостностью, достоверностью, дистальным характером по отношению к наблюдателю, находятся во внешней реальности и т. д. (см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 277–300). Это еще раз свидетельствует о том, что образ восприятия объекта не просто «как бы картинка в голове», а единственно реальный, то есть оригинальный, подлинный предмет, чувственно конституируемый и располагаемый нашим сознанием во внешнем конституированном им же физическом мире.
Другого физического предмета просто нет, и не может быть нигде больше. Наш образ восприятия и представляет собой единственный реальный предмет[26]. И вещественность[27] этому предмету придают исключительно наши же разномодальные психические его – предмета – чувственные репрезентации.
Наше чувственное репрезентирование предоставляет нам истинную, но антропоморфную версию «реальности в себе» в единственно возможной для нас форме. При этом мы должны понимать, что это лишь один из бесчисленного множества возможных вариантов репрезентирования «реальности в себе», каждый из которых потенциально может быть столь же достоверным, как и человеческий, то есть «реальность в себе» имеет столько ипостасей – репрезентаций, сколько существа, обладающие сознанием, способны создать.
Итак, наше сознание не отражает и не копирует, а созидает в специфически антропоморфном виде и в себе самом, но во внешнем пространстве сознания окружающий предметный физический мир, являющийся репрезентацией «реальности в себе».
Об этом так или иначе и в разном контексте говорят многие исследователи. Э. Шредингер (2000, с. 44), например, полагает, что картина мира человека является и всегда остается построением его разума. У. Р. Матурана и Ф. Х. Варела (2001, с. 149) пишут, что нервная система создает мир. Е. Н. Князева (2008, с. 242) тоже считает, что мы создаем мир, в котором живем, в процессе коммуникации, познавательной и преобразующей деятельности.
Во многом верно, но надо постоянно помнить об опасности впасть в другую крайность. Не «мы создаем мир». Он есть вне нас и независимо от нас как «реальность в себе». Мы создаем в своем сознании и для себя лишь антропоморфную, понятную только нам и пригодную только для человека специфическую психофизическую репрезентацию «реальности в себе». А это уже совсем другое дело. Да, наши психические репрезентации конституируют в сознании предметы. Говоря метафорически, они «лепят» из «теста» «реальности в себе» то, что мы считаем затем предметами и более сложными сущностями реальности. Но эти предметы являются предметами только для нас, а не для «реальности в себе». Мы творцы человеческого предметного мира, мира для нас самих, а не «реальности в себе».
Предметная физическая реальность существует только в индивидуальном сознании, но из этого не следует, что создаваемый сознанием физический мир иллюзорен, что он – фикция. Напротив, индивидуальная чувственная репрезентация предметного физического мира совершенно материальна, точнее, вещественна, достоверна и бесспорна, но эту вещественность ему придают свойства чувственных психических репрезентаций человеческого сознания. И вне сознания нет ни чувственной вещественности, ни предметности.
Из-за доминирования дуалистической парадигмы в нашем мировоззрении кажется странной и даже нелепой мысль о том, что наша психика конституирует и преподносит нам «реальность в себе» в вещественной, материальной, предметной форме, которую мы привыкли называть физической, что именно психика ответственна за появление окружающих предметов.
Мы привыкли к тому, что материя и сознание – антагонистические сущности, и поэтому не можем принять очевидный вывод о том, что эти наши представления не соответствуют реальности. Философские определения материи[28] и сознания действительно превратили их в противостоящие друг другу сущности. И эти философские представления распространились на научные представления. Тем не менее, научные представления о материи и сознании резко отличаются от философских, к тому же научными средствами невозможно обнаружить бесспорные доказательства противоположности и несовместимости материи и сознания.
Материю сегодня понимают в науке как некий несотворимый и неуничтожимый субстрат, представленный, например, в виде физического вещества, обладающего свойствами иметь форму, химическую структуру, вес, протяженность, способность к превращениям, движению и т. д.; субстрат, воздействующий на органы чувств, переходящий из одной формы в другую, даже в формы, недоступные восприятию, пребывающий в пространстве-времени; субстрат, из которого состоит окружающий человека предметный физический мир. Мало у кого из исследователей вызывает поэтому сомнение материальность предметного физического мира. При этом в науку из философии перешло убеждение о противоположности и несовместимости материи, а, следовательно, и предметного физического мира, с одной стороны, и сознания, с другой.
Усвоенная наукой идея об антагонизме материи и сознания порождает в исследователях уверенность в том, что сущности окружающего мира бывают либо материальные, то есть предметные и физические, либо психические, и пропасть между ними непреодолима. Материальное «отражается» или является человеку с помощью его психических феноменов, но и только, так как психические явления нематериальны и принципиально отличаются от материи и материальных предметов окружающей человека физической реальности. «Психический мир» «противостоит» «миру вещей». Именно эта форма дуалистической парадигмы доминирует в современной науке, несмотря на то, что раздается все больше голосов исследователей, призывающих отказаться от дуализма.
Можно сказать, что Р. Декарт (цит. по: Дж. Реале, Д. Антисери, с. 321) лишь заложил основы дуализма своим утверждением, что материя и сознание (res extensa (вещь протяженная) и res cogitans (вещь мыслящая)) – это принципиально разные субстанции. Но он рассматривал философские сущности. То есть современная дуалистическая парадигма, возможно, и началась с идей Р. Декарта, но пошла гораздо дальше и в другую сторону… И сейчас вызывает возражения не столько философский, сколько научный дуализм. Упрощая существующую картину, можно сказать, что большинство исследователей считают сейчас материей сущности, лежащие, по их мнению, в основе окружающего нас предметного физического мира: вещество, поле и вакуум. И даже идею антагонизма последних с сознанием можно с оговорками принять. Нельзя принять идею о том, что сознание лишь репрезентирует предметный физический мир, существующий вне сознания, и к формированию физических предметов сознание не имеет отношения, так как за предметный мир ответственна материя. Я полагаю, что сознание имеет самое непосредственное отношение к конституированию физических предметов, так как оно выстраивает их в себе самом. Предметный физический мир – это предметно оформленная сознанием в сознании же человеческая репрезентация материи, которую вполне можно назвать «реальностью в себе». При этом само сознание полностью зависит от «реальности в себе».
Я пытаюсь показать, что психические перцептивные репрезентации (ощущения и образы восприятия) существуют в вещественной, материальной форме, создавая для нас предметы окружающего физического мира. Данное положение противоречит всей истории развития идей о психическом и физическом, а потому кажется странным и неадекватным. Однако принятие этого факта позволяет на практике не только отказаться от декартовского дуализма, но и многое объяснить.
Если «вещь в себе» – это не вполне физическая вещь, точнее, вовсе не вещь, то что же она такое? А если предмет создается сознанием, то как он может быть материальным?
Мы привыкли к идее о том, что «материя (мозг) порождает нематериальное сознание». Но получается, что и сознание порождает материю, по крайней мере, в том предметном, вещественном виде, в котором мы традиционно ее себе представляем?
Пусть не порождает, а лишь конституирует, но в материальной форме. Однако как такое возможно?
Последовательность должна выглядеть так: элемент «реальности в себе» (вне сознания) – ее психическая репрезентация в форме физического (парадокс!) предмета (или образ восприятия предмета в сознании, но в месте локализации элемента) – психические образы воспоминания и представления предмета.
Возникает очередной вопрос: а куда делась в этой схеме «объективность» физического предмета, ведь предмет в ней субъективен, уникален и неповторим, так как создается конкретным сознанием? Мы-то «знаем», по крайней мере мы привыкли к тому, что предмет «объективен», так как доступен всем, кто его сейчас воспринимает. Получается, что физический предмет субъективен, а объективно только то, что позволяет конкретному сознанию порождать его субъективную репрезентацию… То есть объективна лишь «реальность в себе», являющаяся нам в виде наших субъективных психофизических репрезентаций или предметов.
Признание того, что предмет дан нам в нашем сознании, но в физической форме, сразу на практике разрушает дуализм, так как физическое дано нам в психическом и через психическое, а следовательно, мало того, что физическое и психическое неразделимы, эти сущности просто нет смысла выделять. Сформулирую несколько постулатов.
• От концептов (и понятий) физическое[29] и психическое в их привычном смысле необходимо отказаться, так как они неопределимы и неразличимы.
• Если «физическое» существует в сознании, то оно отнюдь не более «объективно», чем «психическое», а вербальные репрезентации не менее реальны и «объективны», чем то, что мы считаем «физическим» миром. Соответственно, понятия, например, ничем не отличаются в смысле их «объективности» и реальности от окружающих предметов, представленных в сознании в виде чувственных репрезентаций.
• Для человека именно психические феномены и есть первичная реальность, так как «реальность в себе», традиционно рассматриваемая как бесспорно объективная и материальная, дана ему лишь в форме его же психических феноменов.
• Психические явления – не эпифеномены, а реальность, так как даже «реальность в себе» дана человеку лишь в форме их.
• Психика – это, говоря метафорически, воплотитель, устройство, трансформирующее «реальность в себе» в доступную человеку предметную психофизическую форму.
• Образы восприятия = окружающие физические предметы – не что иное, как особая разновидность человеческих психических феноменов.
Повторю, что нам необходимо отказаться от старых концептов (и понятий) психическое и физическое. Полагаю, что принципиально возможна и допустима замена в том числе глобальных концептов (и понятий), имеющих вековую и даже тысячелетнюю историю и от того представляющихся нам неоспоримыми, естественными и мировоззренческими. Порой такая замена просто необходима и идет только на пользу, так как ее отсутствие тормозит развитие науки.
Но вернемся к сознанию и его репрезентациям. Говорить, что сознание создает предметы, все же не совсем верно. Роль сознания сводится скорее к тому, что оно как бы «помещает» в специфическую антропоморфную предметную «упаковку» элементы «реальности в себе». В результате человек оказывается в глобальной антропоморфной репрезентации «реальности в себе». «Реальность в себе» дана нам в очень специфическом и явно не изоморфном ей психофизическом варианте, как не изоморфна, например, самолету светящаяся точка на мониторе радара. Впрочем, об изоморфности и соответствии точки и самолета можно долго и безуспешно спорить.
Меняет ли что-то антропоморфная форма репрезентирования сознанием «реальности в себе» для нашего понимания последней? Думаю, для нас непринципиально, что точка на радаре или кривая записи магнитографа не копируют самолет или землетрясение, а лишь как-то сложно и опосредованно соответствуют им. Во-первых, точка и кривая показывают нам, что некие сущности реально присутствуют в мире. Во-вторых, они соответствуют им настолько, что позволяют нам предвидеть дальнейшие трансформации сущностей в реальности, что нам, собственно, и надо. Сама данная метафора, впрочем, достаточно условна, так как модели в ней – точка на радаре и кривая на ленте самописца – сами являются физическими объектами в отличие от наших психических[30] репрезентаций. Но некоторая общая аналогия все же прослеживается.
Можем ли мы говорить о том, что наши репрезентации не изоморфны «реальности в себе»? Имеет ли вообще смысл обсуждение их изоморфности, если «реальность в себе» и является-то нам только в форме этих наших репрезентаций и никак иначе явлена нам быть не может; если, наконец, эти репрезентации и есть для нас единственно абсолютно реальные и бесспорные физические предметы? Если мы не представляем себе и не можем представить, что такое «реальность в себе», о какой изоморфности репрезентаций вообще можно говорить?
Полагаю, что, рассматривая вопрос о соотношении элемента «реальности в себе» и его репрезентации, мы должны говорить здесь лишь об использовании термина «подходит», предложенного Э. фон Глазерсфельдом[31].
Критики конструктивистского подхода, например Е. Я. Режабек и А. А. Филатова (2010), так формируют свою позицию: «…Характеристики реальности, которая существует сама по себе, от нас не зависят… Иначе нам никогда не приходилось бы натыкаться на сопротивление той жизни, которую мы ведем, нашим желаниям. Именно сопротивление природных вещей человеческому насилию заставляет людей пожалеть о своем неразумии… Остается наивный вопрос: неужели адептам конструктивизма никогда не приходилось сталкиваться с неуспехом в повседневном поведении, а возможно, и с катастрофами в личной жизни? Неужели провалы наших начинаний – в особенности в общественном масштабе – ничему нас не учат? Можно ли быть настолько риторичными хоть в теории, хоть на практике?» (c. 216–217). «Ни один серьезный ученый не примет рекомендаций философа-конструктивиста. …Приняв конструктивистскую доктрину, современный человек никогда не сможет отличить науку от научных домыслов, граничащих с шизофреническим маниакальным бредом» (с. 300–301).
Думаю, что конструктивисты не хуже цитируемых авторов понимают зависимость человека от окружающей «реальности в себе» и ее господство над нами. Однако из этого отнюдь не следует, например, необходимости признания ее предметного характера. Со времен Д. Беркли его оппоненты спорили с его сторонниками, чаще всего находясь на разных уровнях понимания реальности… Идеи Д… Беркли касались более глубоких уровней понимания соотношений человека и реальности, чем большинство идей его противников. Мне кажется, что и с критикой конструктивизма происходит нечто подобное.
То, что наше сознание конституирует для себя окружающий мир в физической предметной форме, во-первых, никак не влияет на «реальность в себе», во-вторых, никак не мешает «реальности в себе» определяющим образом влиять на нашу жизнь. Тут нет никаких противоречий и непонятно, о чем вообще может идти спор. Из признания того, что предметный физический мир, конституированный нашим сознанием, является репрезентацией «реальности в себе», отнюдь не следует, что «реальность в себе» зависит от человека.
20
Глазерсфельд Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм / Пер. выполнен по: Glasersfeld E. von. Einf hrung in den radikalen Konstruktivismus / Glasersfeld E. von // Die erfundene Wirklichkeit: wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? / hrsg. und kommentiert von Paul Watzlawick. – 10. Aufl., ungek rzte Taschenbuchausg. – M nchen u.a.: Piper, 1998. – S. 16–38 [Электронный ресурс]: Эрнст фон Глазерсфельд; Пер. C. A. Цоколов. – Режим доступа: http://toptatarica.ru/palsh/rk.htm.
21
Глазерсфельд Э. фон. Указ. соч.
22
«Греческий корень “изо-” означает “равный, одинаковый, подобный”, а “морф-” значит “форма, конфигурация, организация или структура”. …Теоретики гештальта использовали его (изоморфизм. – Авт.) для характеристики своего особого подхода к вопросу об отношении разума и мозга: они утверждали, что объективные мозговые процессы, которые лежат в основе конкретного феноменологического опыта и коррелируют с ним, изоморфны субъективному опыту (то есть имеют функционально ту же форму и структуру)» (Изоморфизм: справ. ст. [Электронный ресурс]: ВСловаре. Ру. Психологический словарь: сайт. – Режим доступа: http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/izomorfizm/230506).
23
Впрочем, Б. Рассел (2001а, с. 234–242), например, разделяет физическое и зрительное пространство.
24
Э. Шредингер (2000) упоминает об изумлении, возникающем, «когда выясняется, что наша картина мира “лишена цвета, холодна и нема”. Цвет и звук, тепло и холод являются нашими непосредственными ощущениями; неудивительно, что их не хватает в модели мира, из которого удалена наша собственная ментальная персона» (с. 39).
25
Подробнее см. об этом: С. Э. Поляков, 2011. – с. 156–160.
26
См. Примечание 2.
27
О вещественности см.: С. Э. Поляков, 2011, с. 629–633.
28
См. Примечание 3.
29
Я широко пользуюсь далее термином «физическое», который в моем понимании означает общее свойство всех перцептивных чувственных репрезентаций человеческого сознания. Физическое – то, что репрезентируется нашими образами восприятия и ощущениями. Оно объединяет такие ярко выраженные специфические признаки, как вещественность, предметность, реальность, константность, тождественность, инвариантность и т. д., которые заставляют человека безусловно верить в подлинность и наличие вокруг него независимого от него предметного мира. Используя здесь и далее термин «физическое», я имею в виду только то, что репрезентируется в человеческом сознании с помощью образов восприятия и ощущений, то есть я не вкладываю в этот термин никакого дополнительного значения, широко распространенного, например, в философии и естествознании. Я не считаю правильным рассматривать данный термин как аналог «материального» в противовес «идеальному», или «психическому», так как считаю такую дихотомию устаревшей и ошибочной.
30
От дуализма мы еще долго не избавимся.
31
Глазерсфельд Э. фон. Указ. соч.