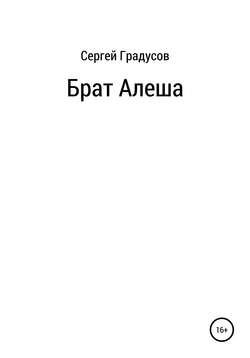Читать книгу Брат Алеша - Сергей Градусов - Страница 10
Часть вторая
На пороге
Глава 1. Илюшин камень
ОглавлениеТринадцать лет назад в этот день лежал уже снег и дул пронизывающий ледяной ветер. Нынешней осенью снег тоже было выпал, да растаял, и ветер дул теплый и как-то даже пахло весной. Алексей Федорович срезал углы по знакомым тропинкам, боялся опоздать, почти бежал, оскальзываясь на мокрой глине и перепрыгивая лужи. Однако у камня стояли пока только двое. Первый был Андреев, (имени, к стыду своему, Алеша не помнил), а второй Петя Симоновский. Про себя Алеша звал их близнецами, так они были дружны и неразлучны и в гимназии, и до сих пор. На них сами собой легли заботы об Илюшечкиной могилке – семейство Снегиревых давно уже выехало из нашего городка, не знаю точно куда; и о ежегодных, ставших обязательными, встречах тоже заботились они. «Близнецы» были не особенно разговорчивы, потому, поздоровавшись и обнявшись, стали молча ждать остальных втроем. Немного погодя явились Иванов и Яковлев, по дороге подъехала коляска с двумя офицерами. Прибежал румяный Смуров, поздоровкался с пришедшими, жал и тряс руку Алексею Федоровичу так долго, что успел осведомиться об Алексее Алексеевиче, о его успехах в ученье, о домочадцах и даже о здоровье кота Мурри – он всегда удивительно помнил все обо всех… Подошел по той же тропинке Коля Красоткин. У камня все обнимались и после двух-трех слов приветствия притихали… Пришел, опираясь на палочку, бледно-зеленый Яша Алфеев, весь закутанный и еще перевязанный крест-накрест шарфом. Он то и дело заходился таким кашлем, что ему приходилось даже останавливаться, чтобы собраться с силами для дальнейшего пути… Из-за леска выехал и плавно покатил по дороге блестящий экипаж, запряженный парой прекрасных лошадей. И кучер и стоявший на запятках лакей прямо сверкали золотом.
– Карташов! Филя! Барон Ротшильд! – зашумели, смеясь, однокашники, – Чего же не четверней?
– Вот уж истинно, Трою основал!
– Дардан, Илюс и Трос!
– Пожалуй, Матюшка, коляска-то у него дороже твоего дома!
– А лошади! А рабы! Каково зажил человек!
Но Филя Карташов, видимо, и сам понял свою оплошность. Выскочив из экипажа, он, маша руками, давал кучеру команду сдавать назад (развернуться здесь было невозможно). Но и сдавать было трудненько по разъезженной, залитой водою глинистой дороге. Соскочивший с запяток лакей взял было лошадь под уздцы, но поскользнулся и ляпнулся в своей сверкающей ливрее прямо в лужу, забрызгав и хозяина… Наконец, насилу допятились до ближайших осинок.
– Ну, не спрятался, так хоть прикрылся! – смеялись, как школьники, собравшиеся у камня. А Карташов уже бежал к ним, снявши шляпу и смущенно разводя на бегу руками; дескать, простите братцы, никак не привыкну к новому своему положению…
История Карташова была воистину сказочная, святочная. После гимназии остался он без средств к существованию, и если бы не Алексей Федорович, может быть, и просто умер бы с голоду. Но Алексей Федорович нашел ему место, телеграфистом на маленькой железнодорожной станции, дал денег, разумеется, в долг и, разумеется, без срока. Там Карташов сразу же нашел себе «выгодную» партию – бедную, как церковная мышь, девушку, сироту прежнего телеграфиста, заплатил ее долги и прожил с молодой женой зиму без дров и почти на одном хлебе, и весною уже, сгорая со стыда, думал идти опять к Алексею Федоровичу за помощью. Но тут в Петербурге умер его дальний родственник, самодур-миллионщик, перед смертью разругавшийся с родней и проклявший сыновей – и отписавший все состояние чуть ли не троюродному внучатому племяннику, который до того и слыхом не слыхивал о дядюшке. Натурально, на непрошенного наследника налетели было адвокаты «законных», но оставшихся с носом – но, как налетели, так и отлетели, отскочили, так сказать, как от стенки горох. Филипп Филиппович Карташов, неожиданно для всех, особенно для себя самого, оказался крепким орешком, отбился от соискателей и теперь гонял по Волге целую флотилию пароходов, да так ловко вел дело, как будто всю жизнь только этим и занимался. В последнее время затеял что-то и в Скотопригоньевске, по слухам, прибирал в одни руки конный рынок, и поражал местных жителей чрезмерной, с непривычки, роскошью…
Наконец собрались все. Явился поставец, близнецы, втроем с подскочившим помогать Смуровым, наполнили рюмки и обнесли присутствующих. Выпили, и тотчас один из офицериков щелкнул пальцами, требуя по второй. Налито было и по второй, однако сразу же после молодцы-близнецы поставец закрыли, так что офицерик остался стоять с поднятой для щелчка рукою – к всеобщему веселью и смеху. Всеобщей же беседы не получалось. Рассыпались на группки, по двое-трое, Коля стоял один, какой-то пасмурный, Алексей Федорович тоже не примкнул ни к кому. Смуров, как неприкаянный, ходил от одних к другим, нигде долго не задерживаясь. В кармане у Алексея Федоровича вдруг зазвонили часы. Он вынул их, чтобы отключить звон. Тут же Смуров сунул нос:
– Ух, ты, красота какая! Швейцарские?
– Нет, представьте, наши. Навещал могилу брата, заехал в Томск. А там такое чудо… Никому не говорю, все думают, что «Breguet» или «Vacheron»…
– Никому не говорите, а мне сказали?
– Да, минута такая нашла…
Алеше было отчего-то очень грустно. В сущности говоря, вокруг него стояли чужие ему и друг другу люди; про внешнюю жизнь их он знал почти все – и почти ничего о том, что у них было в душах. А хуже всего было то, что и знать-то об этом было нечего, что в душах у них, почти у всех, ничего и не было. Души их были пусты и немы, младенческий ясный и жаркий огонь, с которым они раньше приходили к Илюшиному камню, угашен был суетой, пестрыми соблазнами молодости, погоней за деньгами, блеском мундиров, женскими ножками, послезавтрашним балом у нового исправника… Немногие же, сохранившие тот огонь, почему-то страшно стеснялись и скрывали его под напускной грубостью и старательно выделанным нигилизмом… Коля тоже, видимо, думал об этом, и когда Алексей Федорович перехватывал его взгляд, он, как будто был в чем-то виноват, отводил глаза.
Постояли немного, по традиции умолкли, сняли шапки. Некоторые, весьма немногие, перекрестились. Пошли, теперь уже все вместе, в город по тропинке, только Карташов отстал, подзывая карету и приказывая кучеру ехать домой без него. Краем глаза Алеша увидел, как Карташов, доставши из кармана платочек, протер на камне место и поцеловал камень, перекрестился и не надевая шляпы, побежал вдогонку за остальными… Шли поневоле гуськом, из-за узости мокрой и скользкой тропинки. Впрочем, офицер, и тут продолжал свой конферанс, то и дело прерываемый взрывами смеха.
– …Идем по саду, яблони цветут, лепестки летят – рай небесный! А генерал бледнеет, зеленеет, как будто я его на сковородку тащу. Хоть ты в спину его толкай. Тут он мне говорит: «Варфоломей, скажи ты мне, хочу ли я это видеть?» Это в двух шагах-то от крыльца! «Не могу знать, Ваше Превосходительство!» – взрыв хохота, – «А ключи? Где ключи?» «Они у Вас в руке, Ваше Превосходительство!» – снова взрыв, – «И тут… отворяется дверь…» – снова хохот…
Коля, поотстав от приятелей, придержал за руку Алексея Федоровича.
– Я давно хотел поговорить с вами,… только все выбирал время. Думал, что разговор долгий… А теперь вижу, напротив, что говорить тут долго не о чем, и дело весьма простое, долгими разговорами только запутаешь…
– Слушаю вас, Николай Иванович.
– Я… впрочем, что же… Я прошу увольнения, Алексей Федорович.
– Как увольнения? Почему? Ведь недавно еще вы говорили, что и работа вам по сердцу, и планов полно…
– Было, говорил… Было, да прошло.
– Что такое «прошло»? Николай Иванович! Случилось что? Не обижены ли вы чем?
– Ничего не случилось. И обид никаких. Просто… нашел другое занятие. Совмещать не могу. Не считаю возможным. Алексей Федорович, не требуйте у меня подробностей, просто увольте, и дело с концом.
– Что же такая спешка-то! Ну, давайте подождем, подумаем, может, что и переменится… Вы ведь и в мое положение войдите, мне ведь заменить вас некем. Сами знаете…
– Я уже с мая не работаю. С мая в Пёсьегонске только наездами. Манкирую, так сказать… Заменяет меня учитель математики, прекрасно справляется. Сколько не ищите, лучшего не найдете. Берите нового математика, а того директором… Алексей Федорович!..
– Ах, как-то это так сразу, Николай Иванович! Ну, не будемте рвать… Возьмите отпуск, с содержанием, хоть до лета. Там и поговорим…
– Не могу я у вас деньги брать! – чуть не закричал Коля, так, что впереди идущие стали оглядываться, – Ну, Алексей Федорович, к чему из простого-то огород городить! Одно слово – увольте!
Алексей Федорович молчал. Он еще весной заметил перемену в Коле, но никак не мог найти ни причины, ни подхода к делу. Надеялся, авось-либо рассосется как-нибудь. Да видно, не рассосалось… Коля ждал ответа. Однако в некоторых случаях молчание есть самый сильный ответ, а молчать, когда нужно, Алексей Федорович умел. Уже на площади перед собором, промолчавши всю дорогу, Коля не выдержал.
– Алексей Федорович, вы когда будете в Петербурге?
– Через неделю, не раньше. Я сейчас прямо в Пёсьегонск, оттуда уж…
– Приедете, приглашу я вас там в одно место,… все поймете,… тогда и поговорим.
– Вот и хорошо, вот и ладно… а так что же, как на пожар бежать…
Алексей Федорович обеими руками пожал Колину руку, посмотрел в страдальческие глаза и крепко-крепко, по-братски обнял его… Да и с остальными надо было прощаться. Раньше расставались после молитвы, но потом некоторые в собор перестали заходить, (Коля так сразу после гимназии), а потом «некоторых» стало больше остальных. И не то, чтобы большинство так уж разуверилось – просто верить в Бога, молиться, посещать церковь стало как-то «не модно», «неудобно» да и «неуместно» для образованного человека, так что «немногие» входили уже в храм со смущенными улыбками и потупив глаза, а «большинство» смотрело на это снисходительно, как на простительную пока слабость… Вообще, даже ставить так: есть Бог или нет, и то уже считалось чуть ли не ретроградством, развлечением для старичков, «от нечего делать». Молодежь же ставила и решала вопросы сразу практические: кто-то с юных лет зашибал деньгу и становился на крепкую ногу, а кто-то хотел облагодетельствовать и спасти человечество, или хотя бы только Россию, но только чтобы уже прямо сейчас, сию секунду, немедленно. А жизнь, как и прежде, стояла не на первых и не на вторых, а на тех, кто просто жил сегодняшним днем, у кого на уме было теплое местечко, представление к награде на пасху, женские ножки да бал у исправника. Впрочем, и эти, как и первые и вторые, о Боге не задумывались…
Мимо прощающихся, обнимающихся и расходящихся пробежала с криками по площади стайка гимназистов, первоклассников или даже приготовишек, и один из них, как когда-то Смуров, подхватил на бегу с земли камешек и ловко пульнул в стаю воробьев, облепивших голый куст… Алеша пошел напрямик через площадь к храму. Только трое или четверо последовали за ним. Алеша уже был сегодня с утра и в храме, и на Илюшиной могилке, и своих навестил, мать, отца, Ивана и Лизу, собравшихся вместе в дальнем уголке нашего кладбища, но так было тяжело на душе, что сердце просило какого-то исхода, и, едва он, войдя в храм, дошел до образа Алексия Божьего человека и начал молитву, как слезы сами полились из глаз. Он плакал чуть не впервые с похорон Лизы. А ведь сегодня ничего особенного не случилось, он сам не понимал своих внезапных слез, но плакал, как будто прощаясь с чем-то, или предчувствуя какую-то близкую и неминуемую беду.