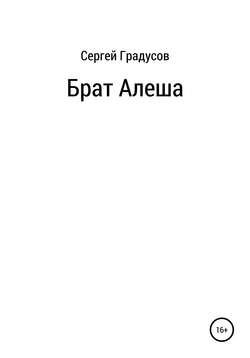Читать книгу Брат Алеша - Сергей Градусов - Страница 3
Часть первая
Тринадцать лет
Глава 1. Больная зима
Оглавление…Зиму после несчастья Алеша провел, как в дурном, болезненном сне. Все, кто его тогда встречал, говорили, что вид он имел как бы куда-то торопящегося и даже опаздывающего. А между тем, торопиться ему было решительно некуда. В отцовском доме он не ночевал с похорон ни ночи, сняв на другом конце города комнатку, хотя после отца оставалась в доме наличность достаточная, чтоб не экономить на жилье. В эту комнатку перетащил он, с помощью Григория, свой очень небольшой багаж и бумаги, которых от Федора Павловича осталось великое множество. Вот эти бумаги и составляли его единственное занятие во всю зиму – надо же было как-то их разобрать к вступлению в права наследства. Алеша ведь оставался теперь единственным наследником – Дмитрий на каторге, Иван болен, и болен серьезнее, чем думалось вначале, а других родственников у Федора Павловича не было, по весьма темным обстоятельствам его ранней юности, о которых Федор Михайлович не счел нужным рассказывать. А больше-то обо всей этой истории нам узнать не у кого.
Аграфена Александровна уехала за этапом, Катерина Ивановна увезла Ивана в Петербург, Lise с мамашей отправились в Швейцарию, к доктору, который, говорят, чуть ли не творил чудеса, впрочем, в весьма и весьма материалистическом смысле. Алеша проводил в одиночестве короткие тусклые зимние дни и долгие темные ночи, перебирая документы и молясь за здравие бедных братьев, за упокой несчастного отца. Тяжелые воспоминания не давали ему работать днем и спать ночью – во снах то приходил отец, пьяный, с головой в крови, то Григорий с Марфой Игнатьевной потрошили на столе голого Смердякова, и внутренности вываливались из него, похожие на карту Сибири, Тянь-Шаня и Памира. Снилась Грушенька, поднимающая подол юбки куда выше колена, хвалящаяся своей белой полною ногой, но выше подвязок нога была вся в гнойных струпьях… Чаще же всего снился брат Дмитрий, оборачивающийся и машущий из толпы колодников. Зосима за всю зиму не снился ни разу, хотя о таком сне Алеша молил Бога чуть не еженощно…
Внезапно оказалось, что Катерина Ивановна, устроившая Ивана в клинику и собиравшаяся вечно сиделкою сидеть у постели своего бедного жениха, вдруг вспорхнула и бросилась вдогонку за этапом Дмитрия. Вскоре письма оттуда стали приходить такие, что Алеша чуть не плакал над ними, да, правду сказать, два-три раза и плакал – безумные женщины, видно, решились разорвать Дмитрия, но не отдать его сопернице. Наконец, «змея подколодная», то есть Катерина Ивановна, укатила вперед этапа на пересылку, с которой Дмитрий должен был бежать, а «подлая тварь» осталась с этапом. Увы, только так, а то и еще злее, именовали друг друга соперницы в письмах к Алексею.
Но побег сорвался. Начальник пересыльной тюрьмы, любезно приняв у Катерины Ивановны деньги, обещал оставить Митю в тюремной больнице, из которой-де, погодя, не трудно будет уйти. Однако этап пришел на пересылку, переночевал и провел весь следующий день на месте, причем колодников даже сводили в баню, первый раз за всю дорогу. А после второй ночевки тронулись дальше, и Дмитрий, вопреки ожиданиям, пошел со всеми. Напрасно Катерина Ивановна, потеряв почти разум, рвалась к начальнику, бушевала в приемной так, что ее пришлось чуть ли не связывать, напрасно падала в обмороки, а, приходя в себя, кричала, плакала и рвала на себе одежды. Начальник сказался в нетях, он ушел, уехал, умер и заболел – и насилу принял Катерину Ивановну только под вечер, уже далеко после обеда. Во-первых, он заметил Катерине Ивановне, что кричать тут нечего, и что он на крик отвечать ничего не может, потому что даже и не понимает, о чем просьба – а во-вторых, здесь место казенное, и вот-с, извольте видеть, портрет государя императора на стене, тут скандалы-с неуместны. Через силу взявшая себя в руки Катерина Ивановна напомнила ему о его обещаниях, упрекнула во взятых деньгах – и получила спокойнейший ответ: «Никогда я от Вас ничего не получал, да и получать не мог». Ох, уже слышала это Катерина Ивановна – слово в слово! Когда-то отец ее бредил в жару этими самыми словами, с этих-то самых слов и завязалось у нее с Дмитрием-то Федоровичем! Да и сумма была почти та же – Катерина Ивановна дала пять тысяч рублей вперед, обещая еще пять, в случае успеха «предприятия». «Как я не убила подлеца, как сама не умерла, – писала она Алексею, – не постигаю. Видно, Богу угодно еще испытывать душу мою, видно, не исполнилась еще чаша страданий моих…»
Трижды за зиму ездил Алеша в Петербург, проведать Ивана, но посидеть с братом удалось только раз, уже в марте. В остальные разы доктора не пускали, давали только поглядеть в дверное окошечко. Палата была просторная, вся обитая толстыми и мягкими матами, с зарешеченным узким окном под самым потолком. Иван сидел на толстой и мягкой постели в белом застиранном балахоне, в широких штанах и войлочных ботах, и сколько ни смотрел Алеша, Иван не пошевелился, так что даже казалось, что он и не дышит. Другой раз, напротив, Иван ходил, верней сказать, бегал из угла в угол и что-то горячо и сбивчиво говорил, несомненно, по-русски, но смысла никакого разобрать было нельзя. Он все ходил и ходил без остановки и, судя по тону, то убеждал кого-то, то оправдывался, то яростно с кем-то ругался. Эта страшная мягкая палата пугала Алешу, про себя он называл ее камерой. Но ничего твердого и тем более острого рядом с Иваном оставлять было нельзя. Кормили и поили его из каких-то гуттаперчевых мисок, а когда однажды по недосмотру принесли питье в фаянсовой кружке – он разбил кружку об лоб и весь изрезался, осколком пытаясь вскрыть вены… В марте Алешу к нему пустили, но мало радости было в свидании. Иван лежал, спеленатый смирительной рубахой, отощавший, серый, заросший многодневной щетиной. Он никого не узнавал, не узнал и Алешу. Взгляд его был пуст, как бы повернут внутрь. Алеша просидел у постели час и другой, разговаривал с ним, гладил по плечу, чувствуя сквозь грубую ткань жестокий жар больного тела. Собравшись уходить, поцеловал брата в лоб, перекрестил, прижался щекой к иссушенной, уже на вид старческой руке. Тут вдруг Иван заговорил – хриплым неузнаваемым голосом: «Опять этот приходил… Все ходит и ходит… Ходит, подлец, ищет чего-то… Говорит, Митю зарезали… Не верю!..»
Но черт не врал. Дома ждало Алешу официальное извещение, а через неделю пришли письма от Грушеньки и от Катерины Ивановны. «Милый драгоценный братец мой, Алексей Федорович! – писала Грушенька, – Позвольте мне Вас так называть, ибо одна я осталась сирота неприкаянная на всем свете. И никого-то у меня нету, кроме Вас, любезный мой братец Алешенька! Покинул нас Митя, покинул навек, сокол ясный, голубчик ненаглядный! Ни словечка-то уж не скажет, не обнимет, ко груди не прижмет! Я одна, грешная дура, я одна во всем виноватая. И на каторгу-то его спровадила, и до каторги-то довести не смогла, не уберегла, проворонила! Просила, просила солдата, деньги давала – не пустил солдат, а надо было сапоги ему целовать, авось бы пустил! Успокоила бы Митю, дал бы Бог, и не случилось беды. Пускали же раньше, поговорю с ним, он и поуспокоится. А этот не пустил! Все через змею подколодную, через Катьку! То одна идет – невеста-де, то другая – опять невеста! Куда ж нас пускать-то! Раньше пускали, смеялись в глаза, но деньги брали и пускали. А этот не пустил – Митеньку моего повидать, последний-то разочек! И как раз тем вечером, этап на ночлег встал, ушкуйник один Митю задирать начал, ты, говорит, железный ты нос, как же ты отца-то родного за пять рублев, бают, зарезал? Али за шесть? Ладно, говорит, я убивец, я быдло сиволапое, а ты-то как же, дворянское отродье, белая кость? Митя на него полез, а тот его ножом! И откуда у них ножи! Заточил, говорят, с чего-то, умудрился! Разнять не успели, ткнул Митеньку, да в самое сердце!
Похоронили тут же на кладбище, от церкви, правда, далеконько, но все ж не в голом поле. Да кладбище-то не огорожено, снегом все занесено, крестов не видать. Волки, говорят, из степи заходят. А так место хорошее, высокое, сухое, кругом степь, не наше болото. Алешенька, братец мой, что мне делать, как жить мне теперь, зачем жить?!! Вот тебе и Америка, вот тебе и новая жизнь! Жизнь-то моя теперь во сырой земле. Приду к нему, на могилку паду, землю грызу – Митя, встань! Не слышит! Прости меня, Алешенька, Христа ради, я одна во всем виноватая, не любила я его так живого-то, как сейчас люблю! Любила бы, ничего бы этого не было…
Змея-то, как хоронили, без чувств падала, в яму прыгала, зарывайте, дескать, и меня с ним. А на девятый день в Петербург укатила. А я здесь останусь, жить буду у могилки Митиной. Ничего-то, кроме этой могилки у меня нету, да ничего мне и не надо. Только ты приезжай, Алешенька, скорее, поплачем хоть вместе у могилки.
С тем остаюсь, милый братец Алексей Федорович, Ваша покорная слуга, раба Божья Аграфена Светлова.
Приезжай, милый братец мой, Алешенька, жду тебя, как светлого лучика жду!»
Что писала Катерина Ивановна, уже из Петербурга, в точности передать не могу, так как не имею на руках ни письма этого, ни копии с него. Помню только, что письмо было очень раскидчиво, что Катерина Ивановна все больше трактовала о своих чувствах, о том, сколько она пережила во все годы истории с Дмитрием Федоровичем, и что ничем иным жизнь Дмитрия Федоровича кончиться не могла, «таков уж был характер, истинно безудержный, карамазовский», и что теперь, как ни горько это говорить, она почувствовала вдруг облегчение, что в письме цитировался даже Пушкин, «как будто нож целебный», et cetera… Также советовала она Алексею Федоровичу перевезти брата Ивана в Европу, в какую-нибудь немецкую или швейцарскую клинику, «потому что в России простой вещи сделать не умеют, где уж душу-то врачевать». Сама же она отправляется тоже в Европу, в благодатную Италию, «к древним и святым камням», и намерена там пробыть как можно дольше, чтобы забыть все прошедшее, как дурной сон.