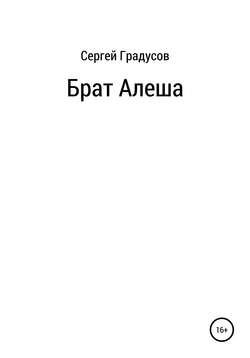Читать книгу Брат Алеша - Сергей Градусов - Страница 9
Часть первая
Тринадцать лет
Глава 7. Дело
ОглавлениеТакова была «душевная драма Алеши с Лизой Хохлаковой». Именно такова, и неправы те, кто ждал, что Лиза пойдет по страшному пути обольстительных инфернальниц Достоевского. Нет, нет и нет! Этого пути не существовало для Лизы, это ясно из первого тома, в особенности из главы «Бесенок» это яснее ясного!
Человек в своем развитии проходит все стадии библейского развития человечества, как эмбрион за девять месяцев повторяет всю биологическую историю земной жизни. Младенец, подобно Адаму и Еве в раю, не различает добра от зла и сам не хорош и не плох – добро и зло еще смешаны, слиты в нем в одно неразделимое целое. Но в какой-то момент происходит то, что в Библии названо грехопадением и изгнанием из рая. Лет в тринадцать-четырнадцать ребенок вдруг с изумлением видит, как мир раскалывается на две бездны – на добро и зло, и сам он оказывается на тончайшей, острой грани между ними. И упасть во зло оказывается так легко, как скатиться с ледяной горки. А подниматься к добру так же трудно, как взбираться на крутую бесконечно высокую гору. И вчерашний младенец, все тяготы которого брали на себя родители, старавшиеся избавить любимое чадо от малейших усилий, особенно душевных, вчерашний младенец с ужасом понимает, что сил-то у него на подъем к добру нет, что и на то, чтобы просто удержаться на грани, не упасть, силенок-то еле хватает. А бездна зла манит, как манит край пропасти, а соблазн падения так сладок, что замирает сердце и сосет под ложечкой… Оттого так часто в этом опасном возрасте делаются страшные, часто и непоправимые глупости: подростки убегают из дома, пишут кому попало сумасшедшие письма, бросаются на любимого учителя с ножом, стреляют во вчерашних друзей-одноклассников, а то и просто режут вены или прыгают с крыши, оставив записку: «в моей смерти прошу винить мир, который слишком велик для меня». И некому-то объяснить бедному самоубийце, что на пути к добру силы с каждым шагом не убывают, а только прибавляются, что поднимающемуся сам Христос протягивает руку помощи…
Четырнадцатилетняя Лиза так же боролась с соблазном зла, как и ее ровесники, (разумеется, не все, большинство-то, заведомо слабое для такой борьбы, Бог милует и проводит по грани как бы во сне, как лунатиков по карнизу). И Лиза сумела победить соблазн, увидеть всю мерзость зла в душе своей, сумела, возгнушавшись собою, признаться в зле – хотя бы только Алеше – сумела и наказать себя. Над придавленным пальчиком вы не смейтесь, боль нешуточная, нестерпимая даже для взрослого мужчины. И с каждым словом самоопределения: «Подлая, подлая, подлая, подлая!» изгонялся из души Лизы бесенок, и оставалась чистота, впредь уже не подверженная соблазнам.
Впрочем, зачем это я здесь разжевываю, все это есть в первом томе, в главе «Бесенок». Что же до сплетни о ее, якобы, инфернальном бегстве от молодого супруга, чуть ли не из постели, ночью, с каким-то французским инженером, потом ее бросившим, и о смерти чуть ли не от голода, где-то на чердаке – то сплетня эта появилась много позже, во времена, до которых мы еще дойдем, в петербургской газетенке «Разные слухи», в пасквиле за подписью М. Р-ин. И знаем же, что стыдно верить пасквилям, а верим, да еще и с удовольствием верим! Воистину, любит человек падение праведного и позор его…
Оставшись вдовцом, Алеша с головою ушел в работу и ученье. Дело его шло в гору. Фабрика, как ухоженная, политая потом пашня, воздавала сторицей. Да и грех сказать, время свежим ветром надувало паруса промышленной России, и несло ее вперед, а с ней вместе и Алексея Федоровича Карамазова. Старый управляющий, казавшийся когда-то великим мастером и знатоком, теперь сам отдавал первенство Алеше, удивляясь зрелой мудрости и неожиданности его решений. Когда старик попросился на покой, его место занял Петр Фомич Калганов, конечно, не без протекции отца. Он получил великолепное образование, мечтал посвятить жизнь математике, но, подумав, занялся практическим делом и успел уже попрактиковаться на манчестерских производствах; цены ему не было во всем, что касалось современной организации производства. Интуицией же в финансах обладал феноменальной, как и чутьем на малейшую фальшь, так что обмануть его в сделках было невозможно. В делах отца он не прижился, откровенно говоря, из-за жестокой ревности старших его лет на десять-двенадцать единокровных братьев. А с Алексеем они были ровесники, и сошлись быстро и очень близко, как братья, и притом родные. Они и внешне были похожи, Алексей только волосом потемнее и пониже ростом, чем длинный светловолосый Петр. Петр Фомич, подумав хорошенько, (он и все делал, хорошо подумав), в дело Алексея Федоровича вкладывать из своих средств не стал, а управлять взялся. В деловых кругах их стали звать после того никак иначе, как «братья Карамазовы». По смерти Фомы Ивановича перешли к Алексею Федоровичу и еще несколько его служащих, не сжившихся с новыми хозяевами, что стало ценным приобретением для дела. Потапенку Алексей Федорович, правда, не взял. Он был благодарен Фоме Ивановичу за жестокий урок в самом начале карьеры, но вспоминать об этом уроке не любил.
Так сложилось, что вторая половина царствования Александра II Освободителя ознаменована была, наряду с, так сказать, заморозком в сфере гражданских свобод, некоторыми весьма разумными мерами в экономике, хотя и неполными, как и многое в свершениях этого великого правителя. И, как в начале дела Алексею Федоровичу был выгоден крепкий рубль и низкие ввозные пошлины, так потом пошла на пользу инфляция и охранительное повышение пошлин. Теперь уже рынком сбыта карамазовских тканей была не только Бухара и ханства, не только Персия, но через Персию и богатейший Левант, ранее недоступный из-за засилья англичан. Левант Алексей отбил относительной дешевизной, в России брал качеством, за счет новейшей европейской техники. Уже и Астрахань и Поволжье были отвоеваны у Морозова, и по Волхову, а потом и по железке через Чудово шел карамазовский товар в Петербург, в Финляндию, в Архангельск. Песьегонская фабрика вскоре превратилась в небольшой промышленный город, но Алексей не останавливался на этом. Зимина и Кирпичникова, бывших страшных конкурентов, он придушил и съел, и теперь на месте их допотопных мануфактур строил современные фабрики, каких ни в Англии, ни в Бельгии не было. Тут уж охранительные пошлины обходились с помощью головоломных схем и зубодробительных взяток. Алексей торопился, он чувствовал, что за подъемом снова грянет спад, но ему повезло вырвать заказ военного ведомства перед самой турецкой войной. Как бы ни было хорошо на рынке, в России государева казна всегда была самой надежной и обильной кормушкой. Алексей Федорович постарался вдоволь насытиться из этого неиссякаемого источника…
При всем том он свято держался заветов Фомы Ивановича, не забывал, что основа его богатства – это труд его рабочих. Новичок-ткач на его фабриках не получал меньше семнадцати рублей, шла доплата за ночные работы, за праздники платилось вдвойне, штрафы ограничивались десятью процентами от оклада. При каждой фабрике строилась церковь, больница и школа – для детей и для взрослых. Взрослые шли в школу охотно, тем более, за грамотность тоже полагались доплаты. А вот детей поначалу матери не очень-то отпускали, не видели пользы, или жалели детей, пусть-де еще погуляют, или опасались чего… Как бы то ни было, Алексей Федорович и эту задачу решил просто и быстро – стал платить детям за учебу. Платились, конечно, смешные копейки, но так же, как на фабрике, с доплатами за успехи, штрафами за неуды, с повышением оклада от класса к классу. Видя такой серьезный подход, матери поменяли свое отношение к школе, да и дети подтянулись – для них-то эти копейки были вовсе даже и не смешными, а вполне себе серьезными суммами.
Разработать и организовать систему этих школ, детских и взрослых, Алексей Федорович предложил своему прежнему знакомцу – Николаю Ивановичу Красоткину, только что вышедшему из университета и оглядывавшемуся в поисках предмета приложения сил. Он с жаром взялся за дело, новое в России и близкое его душе. Он ведь с юных лет склонен был водиться с младшими, хоть бы и совсем с «пузырями», воспитывать и образовывать их. К слову сказать, Дарданелов, бывший учитель его, а теперь уже директор гимназии, все-таки дождался руки Колиной матери, и так сошелся с пасынком, что имел сильное влияние на выбор Николаем жизненного пути. Алексей Федорович и других своих скотопригоньевских мальчиков не терял из виду, помогая нуждающимся, поддерживая оступившихся, на одном только условии – чтобы помощь эта оставалась тайной для своих и посторонних. Возмужав, все они крепко стояли на ногах, многие благодаря Алексею Федоровичу…
Страна летела вперед, как огромный корабль, кажущийся непобедимым в гавани, но уязвимый перед ударами штормов океана всемирной жизни. Экономика трещала под непосильным грузом турецкой войны, но Алексей Федорович богател на военном заказе; крестьяне жгли помещичьи усадьбы, рабочие громили особняки хозяев, неуловимая и страшная Народная Воля среди бела дня убивала губернаторов и министров, охотилась за самим царем, но работники Алексея Федоровича, любя его, снимали перед ним шапки, улыбались ему, и звали не иначе, как «батюшка», «благодетель». Империя Карамазова росла и крепла, захватывала рынки, и Петр Фомич, иногда смеясь, говорил: «Когда Карамазов в Петербурге кашляет, на лондонской бирже звенят стекла»… Это было преувеличением, да еще каким, но Алексей Федорович про себя знал, был уверен, что когда-нибудь так и будет. Сила и власть нравились Алексею Федоровичу, шли к нему, к его статной фигуре, к спокойному и твердому взору, какой-то голос шептал ему в ухо: «весь мир у твоих ног, он принадлежит тебе – бери его!». И Алексей Федорович брал.
Он выстроил на Петербургской стороне за буяном особняк фасадом на Малую Неву, по образцу нижегородского дома Фомы Ивановича, только раза в три больше и в десять раз роскошнее. Оказалось практичнее жить не у производства, а поближе к министерствам, банкам, к таможне, где тоже люди, которым «каждому выпить, поесть и детишек пристроить охота», по выражению римского сатирика. На первом этаже контора, на втором – справа от парадной мраморной лестницы половина Алексея Федоровича, слева половина Петра Фомича, на третьем – апартаменты для инженеров, представителей фирм-партнеров, торговых агентов и прочая и прочая… Днем вокруг дома и внутри его кипела жизнь, стоял крик и шум, извозчики с трудом разъезжались на широкой набережной, суда под десятками европейских флагов пришвартовывались, разгружались, грузились и уходили в море, растворяясь в бледно-лимонной чухонской заре. Ночью же все затихало, дом, залитый через огромные окна холодной луной, замирал, оберегая сон всего нескольких ночующих в нем человек. Ни звука, ни движения до самого утра. Только иногда где-то на половине Алексея Федоровича открывалась тяжелая дубовая дверь, кто-то выходил из комнаты, бесшумно шел по серебряному лунному паркету и бесшумно скрывался за другой дверью – до самого утра…