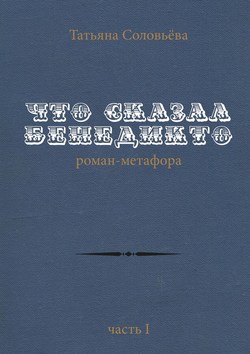Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 1 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3. Вильгельм Кох
ОглавлениеС тех пор как отец сломал ногу – уже три месяца – математику в гимназии вел господин Шульце. Он был не такой блестящий математик, как отец, но к Вильгельму Коху относился уважительно, дружески, не забывал каждый раз специально для Коха принести на урок усложненные индивидуальные задания. Кох любил любого человека, который учил его чему-либо, благодарен был любому учителю. Учителя – это был его внутренний культ.
Шульце вошел с сияющим лицом, взошел на кафедру, потрясая красивой гербовой бумагой.
– Господа, – обратился он к гимназистам. – Я против правил сегодня разрешаю вам пошуметь. Вильгельм, иди сюда. Иди, иди. Поднимись ко мне.
Кох подошел – потому что учитель сказал это сделать, хоть ему и стало сразу как-то очень тревожно. Шульце приобнял Коха за плечи, выставляя его перед всем классом, и самым торжественным голосом повел речь о том, что господин Кох-младший, наш дорогой Вильгельм, принес нашей школе славу. Что школе! Всему нашему тихому городу! Потому что такого тут еще не бывало: проектная работа господина Коха по воздухоплаванью – удостоена золотой медали в Берлине, на конкурсе вовсе не ученическом. Что либо затерявшееся уведомление, либо болезнь отца – что-то не позволило Вильгельму попасть в Берлин на торжественное вручение награды и премии, что известие пришло повторно – слава Богу, его донесли до школы. Что он, Шульце, ждет заслуженной овации для Коха. Овации не было, по классу прокатился гул недоумения, а у самого Коха медленно темнело в глазах.
О конкурсе он вычитал осенью в журнале, сложил в папку свои чертежи, отнес их на почту и без всякого сопроводительного письма – с одним обратным адресом на конверте – отправил плоды своих ночных бдений. Отправил, с месяц подождал рецензии, хоть какого-то ответа – и забыл. После рождества пришло письмо – хорошо, что Кох встретил почтальона по пути из школы, и письмо попало ему прямо в руки, минуя почтовый ящик. Кох закрылся у себя, открыл конверт и с удивлением обнаружил вместо рецензии приглашение для участия в церемонии награждения победителей. Просто приглашение, о его победе не говорилось. Он написал ответ, что сам он ученик школы, не может приехать в Берлин, потому что ни временем, ни средствами для таких перемещений не располагает. Отправил, повздыхал – и получил из журнала извещение о том, что его рукопись размещена в журнале «Воздухоплаванье», и вопрос, куда следует господину Коху перечислить гонорар. Кох написал, что если бы ему вместо гонорара прислали лишний номер «Воздухоплаванья» – он был бы благодарен редакции, послал новые чертежи, расчеты. И получил несколько бандеролей – не только с полной подпиской «Воздухоплаванья» за два года, но и новенькими справочниками по дирижабле- и самолетостроению. Кох считал, что на этом его радости и печали закончились.
С тех пор, как у Коха появилась своя комната, ему никто не мешал сидеть до рассвета – отец был уверен, что Вильгельм прилежно занимается математикой, готовится к поступлению в университет. Отец ничего не знал об увлечении Коха самолетостроением, его интересе к инженерному делу. Кох не первый год экономил на всем – но купил себе чертежную доску, готовальню. Все это утром он прятал под кровать, чертежи расстилал под матрасом, журналы прятал в пакет и тоже убирал под кровать. Журналы были дорогие, – если б не роскошные дары редакции – он не купил бы и пары штук за полгода. Справочники – просто цены не имели и были зачитаны Кохом и разучены вряд ли не наизусть.
Он ничего не мог с собой поделать, – стоило ему закрыть глаза – он видел обтекаемые, сверкающие, из легкой стали фюзеляжи самолетов, а не убогих деревянных корявых уродцев, которые считались самолетами, на которых отважные парни пытались подняться в небо – и бились сотнями во всем мире. Голова его кипела от идей – он видел эти еще не существующие машины, ощущал телом трепет их корпусов в полете, засыпал – как проваливался, ложась в головокружительно высоком полете на крыло своего еще не рожденного детища. Он рисовал корпуса, модели винтов, крыла самолета. Он чертил двигатели, рассчитывал мощности, он жил в не покидающем его ни на миг вдохновении. Он даже подумывал, не признаться ли отцу в своем увлечении, чтобы тот отпустил его если не в авиацию, то хотя бы на инженерный факультет. Но тут отец сломал ногу, стал раздражителен оттого, что гимназию, которую он столько лет возглавлял, ему пришлось переложить на плечи его друга и коллеги математика Шульце. Кох понимал, что сейчас не лучшее время для разговора на такую тему. Тем более что до окончания гимназии оставался еще целый год.
Отец много занимался с Кохом, пока тот учился в начальной гимназии. Кох в математике был, бесспорно, сильнейшим учеником – и давно. Но математика ему легко давалась, он знал её как само собой разумеющееся. Только чистая математика не занимала его так, как самолеты, как аэродинамика, геометрия крыла, химические составы топлива, смазки, легкие сплавы. Слава Богу, что весь гимназический курс для Коха давно не составлял откровения, на уроках он присутствовал, отвечал, когда спрашивали, решал контрольные работы, но на коленях у него всегда лежала его сокровенная тетрадка, в которой он делал наброски, производил расчеты.
Весть о золотой награде, конечно, приятна. Только отец такой скрытности не поймет – и, конечно, разобидится. Сейчас он и так умудряется на все и на всех обижаться и нервничает из-за всего по пустякам. Ему все мерещится, что нога его загниет, что у него вот-вот начнется гангрена, что кости его срослись неверно или не срослись вовсе. Что семья его без него не выживет, что он не вернется в директора, что его многочисленная семья пойдет по миру. Кох был старшим, он знал то, что младшие дети в семье не знали. Чем протирать штаны в гимназии, Кох сам давно пошел бы работать, но отец слышать ничего не хотел, – Вильгельм самый одаренный в семье, только математическое отделение университета – словно нужно оно было Коху. Отец впал в манию экономии, младшие этого не понимали, а Кох понимал. И думал, как он объяснит отцу участие в странном конкурсе, наличие дорогих журналов, чертежных инструментов, справочников, саму свою тайну от отца, который столько занимался его обучением, так всегда был терпелив и лоялен к нему. Кох понимал, что приятным этот разговор не будет. И никакая медаль не уничтожает факта, что он от отца скрывал свои подлинные интересы, а значит, лицемерил, изображая послушного сына-отличника без пяти минут студента математического отделения, преданно и благодарно идущего по стопам отца.
Шульце жал ледяную ладонь Коха, пытался подогреть энтузиазм класса, но класс только гудел, переговариваясь.
И тут закадычный враг и соперник Коха – вечный второй ученик класса – Густав Шлейхель громогласно объявил, что, уж ясное дело, не сам Кох выполнил эту работу, что это господин директор, наверное, дома от скуки начертил какой-то проект, а приписал своему дорогому сыночку. Всем известно, что господин директор – благородный человек, всю жизнь пытается сделать вид, что ублюдок Кох – его родной сын, что он самый умный и весь из себя отличник. Все знают, что все контрольные папа прорешивает со своим отличником накануне – потому у нашего дорогого Вильгельма только самые высшие баллы. Только все же знают, что Кох – приблудный, что его принесли в подоле. И он сам это знает. И вы это знаете, господин Шульце. Весь город про это говорит. Вот Кох и старается всем доказать, что он так похож на господина директора.
– Не трогай мою мать и моего отца, – сказал Кох. Его окатило волною стыда и гнева.
– Скажи, что это не так, – в лицо улыбался Шлейхель.
Класс одобрительно гудел не в поддержку Коха, а в поддержку Шлейхеля. Шульце растерялся – он тоже, конечно, знал одну из любимых тем всех городских сплетников. Он не нашел, что сказать. Кох вырвался из его рук, подошел к Густаву и, не говоря ни слова, ударил его в лицо прочно сложенным кулаком.
Кох вышел из класса, понимая, что сейчас ему вдогонку выскочит не только Шлейхель, но и четверо его телохранителей. Кох – тощий, младше всех в классе, против компании Шлейхеля выстоять шансов не имеет. То есть самое умное, что он может сделать после всего случившегося, – это отойти хотя бы за школу, чтобы не оказаться перед глазами у всех в плачевном положении.
Как он и предполагал, за ним вышли следом. Под белы рученьки – к стене, и тоже молча били. Лицо не трогали, держали за руки, не давая упасть, и всаживали кулак за кулаком в грудь, в живот, а когда он уже просто болтался у них на руках – в спину. Бросили на землю, добавили ногами и, убедившись, что Кох встать и не пытается, что он отключился, с чувством выполненного долга вернулись в класс. Учителю Шульце они объявили, что Кох сбежал, что они его так и не нашли и что это лишний раз доказывает, что никакого отношения к золотой медали Кох не имеет, а вот господину директору – виват! И класс огласился долгожданным ликованием, прославлением директора.
Шульце растерянно улыбался и тревожился за Коха. То, что Кох мог просто подойти и разбить в кровь кому-то лицо, – было для учителя Шульце полной неожиданностью. Кох, и в самом деле, странный мальчик. Вечно молчит. Даже улыбается как-то отстраненно и грустно. Может на уроке так задуматься, что его пять раз окликнешь, прежде чем он повернет голову. И на белокурую, голубоглазую, круглолицую директорскую семью – где все как пересняты под копирку – темноволосый, длиннолицый сероглазый Кох ничуть не похож, просто ни единой чертой. Несчастный ребенок.
И Шлейхель, в общем-то, сказал то, что все говорили. Мог бы, конечно, не повторять сейчас. Все-таки золотая медаль на имперском конкурсе – это событие событий. О нем напишут в местной газете – интересно, что? Ясно, что без намеков не обойдутся. Но в Берлине о Вильгельме Кохе написали удивительную хвалебную статью, ее Шульце припас для Коха-старшего, рассчитывая вечером у него посидеть с бутылкой хорошего вина. Сам Шульце выпил бы пива, только директор Кох считает мещанством употребление этого истинно немецкого напитка. Но вино – так вино. Может, Кох-старший очнется от своей непроходимой хандры и поправится от такого успеха. И премия, если честно, огромная. Можно два года прожить семьей безбедно, ни в чем себе не отказывая. Надо предложить другу отправиться с семьей на курорт, ногу подлечит, сам успокоится – и хоть раз в жизни просто отдохнет.
Вильгельм смутно слышал, как звенели звонки. Внутри все болело и не давало шелохнуться. Он пережидал, умоляя каких-то небесных заступников – хоть немного унять этот кошмар внутри тела. Хорошо, что апрель был холодный, погода стояла отвратительная – сырая, с ледяным ветром, – ученики не выходили на перемене на улицу.
Нужно было вернуться в школу, забрать портфель и уйти домой. Тоже непонятно, что он скажет отцу. Костюм не порвали, но в грязи он весь вывалялся. Ясно, что отец будет в ужасе от его вида. Хорошо, если Шульце не догадается рассказать, как Кох среди урока разбил рожу Шлейхелю. Отцу-то не скажешь – за что Кох её разбил. И Шульце тоже не скажет. Лучше бы и вовсе промолчал.
Кох никогда ни с кем не дрался и его никто никогда не бил, и ему еще никогда не было так плохо и больно. Царапая о кирпич руки, он кое-как поднялся, чуть задрал рубаху – даже на животе огромные лиловые кровоподтеки, грудь не дышит, тоже – сплошной разлитой синяк. И все-таки это можно скрыть под одеждой, спасибо, что не на лице у него такое. Кох пролез в заборную брешь, отошел в рощицу за школой, лег у дерева – в школу он еще не мог зайти, его тошнило, словно ему набили живот лягушками и камнями.
Он тоже слышал, что отец его взял жену «с приданым», – но мало ли что люди болтают. Отец говорил, что с матерью они дружили с детства. Кох был достаточно взрослым человеком, чтобы отца не осуждать. То, что он не похож ни на кого в семье, – тоже бывает. Мало ли в какого он деда или бабку уродился. Родители его любили, он тоже любил их, отец ни с кем в семье так не возился, как со старшим, разрешал сидеть у себя в кабинете, брать книги, никогда не ругал, не наказывал – и Кох больше всего на свете боялся огорчить, расстроить отца даже малейшим проступком, непослушанием. У Коха были две младших сестрички и брат, на отца и на мать очень похожие, веселые, шумные, как мать, добрые, они очень любили Коха, и Кох их любил – только их увеселения для Коха были тяжелы, его тянуло побыть одному, в тишине, побродить, подумать. В голове его столько всего происходило, что внешние увеселения были невыносимы. Но это не мешало ему любоваться непосредственной радостью жизни других членов семьи. Просто для Коха было недоступно одно, для них – другое. Все у них дома было хорошо. Родители не обсуждали городских сплетен, они были выше этого. Отец выделил Вильгельму собственную комнату, она была под чердаком, рядом с лестницей, крохотная, но своя. Отец будто особо щадил и оберегал любовь старшего сына к размышлению, словно предоставлял ему убежище от домашнего шума. Остальные дети блестящей наследственности господина директора не унаследовали, не то что математика – а вид любой книги навевал на них непроходимую тоску. Вся надежда была на Вильгельма. Кох еще два года назад попытался отцу заикнуться об инженерной профессии, но отец категорически заявил, что инженер – это плебейская профессия и что бегать по участкам и чертить схемы расположения канализационных труб – дело, конечно, необходимое, но для него не нужно такое дарование, каким природа наделила Коха. Что он сам мечтал посвятить жизнь чистой математике, а вынужден вдалбливать в головы тупых учеников математические формулы, и он-то знает, что значит заниматься всю жизнь не своим делом, и своему сыну даст возможность сделать то, чего сам не сделал, так как всегда прежде всего думал о благосостоянии своей семьи. Кох и помалкивал, чтобы не огорчать отца своей приверженностью плебейской профессии. На конкурс он послал работы только потому, что устал вариться в своих идеях как в своем соку. Ни на какое признание он не рассчитывал, даже не думал об этом, он надеялся, что ему хоть пару слов скажут в рецензии, укажут на самые грубые его ошибки, чтобы он как-то их учел, обнаружил. Ведь он ничего не знал, и обсуждать свои идеи ему было не с кем.
Кох всегда видел отца за отчетами, конспектами, помогал отцу проверить тетради, составить проверочные работы. Он видел, что отец не щадит себя за работой – и поэтому больше всех в семье боялся порвать штанину, не признавался, что ему тесны ботинки, прятал любые деньги, что давались ему на личные его нужды, и, уж конечно, он ничего не просил для себя сам. Его тяготило то, что в пятнадцать лет он сидит у отца на шее.
Теперь наружу выплывет все. Никакой успех Коха не радовал просто потому, что он не мог понять, как ему объяснить отцу свою скрытность. Сегодня он еще и весь в грязи, неизвестно, удастся ли скрыть инцидент в школе. Триумфатор. Отец сочтет его неблагодарным, заносчивым – на такой конкурс посылать работы и не то, что не показать их отцу, а даже в известность отца не поставить. Скажет, что «конечно, Вильгельм считает себя умнее отца»… Всё это не так, неприятно, и не объяснишь никому.
Когда уроки закончились и все разошлись по домам, Кох зашел в школу, забрал портфель, немного почистил костюм – безнадежно грязный. Шульце встретил его у выхода и протянул проклятую медаль в красивой коробочке, а диплом и самое главное обещал занести вечером сам.
– Ты не здоров, Вильгельм? Ты сам потрясен таким успехом? Признайся.
– Господин Шульце, не говорите отцу, я вас прошу. Он не знает, он обидится, что я не сказал ему.
– Глупости! Он будет гордиться тобой. К тому же, Вильгельм, там большие деньги. Их выдадут только твоему отцу. Это сейчас для вашей семьи очень кстати. К тому же, если б ты знал, что написали в берлинской газете о тебе и твоих проектах… Вильгельм, не бери в голову – кто бы что ни говорил, – эти люди будут гордиться, что учились рядом с тобой.
– Господин Шульце, хотя бы сегодня не говорите отцу. Я плохо себя чувствую, я не смогу сейчас пережить разбирательств.
– Вильгельм, какие разбирательства! Что ты говоришь? Ты и в самом деле, видно, не совсем здоров. Эта драка на уроке!.. Это так странно…
– Драка, – Кох усмехнулся. – Не было драки. Просто этот подонок оскорбил публично моих родителей, которых я люблю, которых уважаю. Я не должен был это ему простить.
Это тоже было незнакомо в Кохе – усмешка, возражение, тон, граничащий с дерзостью.
– Иди домой, Вильгельм. Ты плохо выглядишь. Может, тебя проводить? Или отвести к доктору?
– Нет, спасибо, господин Шульце. Просто немного болит голова.
Отец вышел в коридор на костылях, долгим взглядом осматривал замаранный костюм сына.
– В лужу, что ли сел? – спросил он с незнакомой холодной насмешкой в голосе.
– Да, папа, я упал. Я отмою.
– Почему так долго? Занятия закончились два часа назад. Я тебя жду, чтобы всерьез поговорить с тобой. Переоденься и спустись в гостиную, мы все тебя ждем.
Кох глянул в комнату. Все – это мать и сестры с братом. Семейный совет? Интересно. Уже узнали?
– В школе у тебя все хорошо?
– Да.
– Сам ничего не хочешь мне рассказать?
– Ты про что, папа?
– Я жду тебя в гостиной. Поторопись.
Кох вошел в комнату – и все понял. Из-под кровати выужены все его книги, на кровати разложены его чертежи, доска, готовальня. И самый страшный секрет Коха – его прятанная-перепрятанная флейта, самая простая, дешевая, купленная у уличного мелочника-торговца. Всё наружу.
«Почему же все именно сегодня?»
Кох медленно присел на край постели, скрыл в ладонях лицо. Его затошнило еще сильнее, тело заливало холодным липким потом – он хотел только лечь и умереть самой внезапной смертью, потому что у него нет сил объясняться, изворачиваться, просить прощения. У него вообще нет сил.
Снять с себя пиджак он еще смог, а рубашка на боках накрепко присохла от крови – отдерешь, все хлынет по новой. Кох натянул пиджак обратно и пошел вниз, держась за перила двумя руками. Вошел, посмотрел на отца – тот даже не предлагает сесть, он расстроен, огорчен, рассержен. Он не любит, когда лгут.
– Мама прибирала в твоей комнате, – начал отец голосом убийственно спокойным. (Кох всегда убирал в своей комнате сам. Беспорядка у него не бывало. Это был обыск).
– Ты видел, мы обнаружили много странных, непонятно откуда у тебя взявшихся вещей. Объясни, пожалуйста, где ты все это взял.
– Прости, папа.
– Это не ответ. Вильгельм, это дорогие специальные журналы, их много, это колоссальные суммы – откуда они у тебя? Я не говорю о странном инструменте – это-то тебе зачем? Ты играешь на флейте? Странно, не замечал. Это уже что-то сродни болезни, Вильгельм.
Кох молчал.
– Я в чем-то отказывал тебе? У тебя есть повод не доверять мне?
– Нет, папа.
– Повторяю вопрос, откуда ты брал деньги? Я грешил на своих детей, полагая, что это они по легкомыслию, не понимая тяжести семейного положения, таскают деньги из шкатулки на свои глупости и развлечения, я думал на них, но на тебя – никогда.
– Я не брал, папа. Что значит на своих?..
– Я жду ответов, а не вопросов. Ты не брал? А где ты их брал? Ты – вор? Я пригрел в своем доме вора и доверял ему больше, чем своим детям? Мне стыдно перед моими детьми. Я прошу у них прощения за то, что оказывал тебе предпочтение.
– Папа?.. Почему ты так говоришь?.. Папа, не говори так. Почему – твои дети? А я?..
– Ты не мой сын. Я взял Марту замуж, потому что любил ее с детства, но в жизни бывают разные нюансы, я умею прощать людям их слабости. Я скрыл ее грех до свадьбы, признал тебя своим сыном, я делал для тебя больше, чем для своих детей, но ты таился, прятался, – как ни ласкай тебя, ты никому не доверял. Теперь я узнаю, что ты еще и вор. Я надеялся, что ты сумеешь найти объяснения своим приобретениям, своим поступкам – но объяснений нет, потому что их и не может быть.
– Папа… папочка… Я не брал!.. Я никогда ничего у вас не брал. Я просто копил все, что вы мне в разное время давали… Папа, я прошу, только не говори этих ужасных слов! Я же так люблю тебя. Я вас всех так люблю… Почему же я не ваш?..
– Не брал у нас – брал у других, таких денег тебе никто не давал, Вильгельм. Это выходит еще хуже. Я вынужден всерьез разобраться в том, что происходит. Не хватало, чтоб ты замарал честь нашего дома. Выворачивай на стол карманы – или я сам подвергну тебя этой унизительной процедуре.
Кох попятился от отца, подбирающего костыли, встающего из кресла. Мать молчала, сестры и брат во все глаза смотрели на Коха и молчали тоже.
Если бы отец раскричался на него, даже ударил – это было бы лучше, чем слышать его отчужденный, ледяной голос. Отец подошел, перехватил костыли, вывернул карманы – один, второй. Будь она трижды проклята – эта золотая медаль, которая вывалилась из коробки и покатилась по полу. Брат поднял её и протянул отцу.
– Это – что?? – загремел вдруг отец.
Кох поджимал, как младенец, к груди руки. Его затрясло, он перестал видеть и слышал одно уханье в голове.
– Я спрашиваю, у кого ты это взял?? Ты хоть понимаешь, что это такое?!
Кох ухватился за стол, чувствуя, что сам уже не может устоять на ногах.
– Я считал тебя сыном!! Но сын проходимца – он и есть проходимец! У кого ты это украл, негодяй??
Пощечина уже ничего не добавляла, она только нарушила равновесие. Кох схватился не за лицо, а второй рукой за стол. И все-таки устоял.
В дверь зазвонили. Кох уже знал, что он сделает, и ему стало спокойно. Он знал, что пришел Шульце, – очень кстати, потому что все отвлеклись, даже отец поковылял к дверям.
В доме был еще один выход – из кабинета отца во двор. А главное, что в кабинете отца на стене висело старинное ружье, и к нему запрещалось прикасаться – потому что оно заряжено. В ружье один единственный патрон, но Коху этого хватит, чтобы раз навсегда оборвать это безумие.
Кох выждал, пока все выйдут. Маленькая Катрин виснет на отце и ноет, что Вильгельм – хороший, очень хороший, он такой добрый. Может, он нашел эту золотую денежку. И что они брали в шкатулке деньги на цирк, на мороженое, на куклу – мама разрешала.
Кох пошел в кабинет отца, снял со стены ружье, вышел во двор, прошел в сарай и задвинул за собой засов, которым сто лет никто не пользовался.
Ружье ужасно тяжелое, с неуклюже-длинным стволом и коротким прикладом, до курка тянуться – не хватает руки. К виску не приладить. Но если упереть приклад в землю, то легко приставить ствол к груди, – это больно, но теперь никакого значения боль не имеет.
– Господин Шульце?..
– Вы чем-то огорчены, господин директор? А я пришел вас поздравить! Это потрясающе!!
– Что?
– Вильгельм так и не сказал?
– Он сегодня не склонен давать объяснения своим поступкам, господин Шульце. Кофе? В школе всё спокойно?
– О чем вы говорите! Ваш сын получил в Берлине Золотую медаль! Вы только почитайте, что о нем пишут! Он прославил вас, да он всех нас прославил! Невероятный успех! Какой молодец! Какого сына вы воспитали, господин директор!
– Что о нём пишут? – как эхо, отозвался Кох-старший.
– Прочтите! Прочтите! Нет, сядьте! Все сядьте! Я сам вам прочту! Где Вильгельм?
Директор Кох сел в кресло, отставил костыли. Шульце развернул письмо из Берлина, положил на стол газету, где имя Вильгельма Коха красовалось в крупном заголовке.
– Послушайте! – возгласил Шульце.
Во дворе прозвучал выстрел. И в комнате на миг стало очень тихо.
Директор Кох всё понял. И поняли его дети. Потому что они с криком и со слезами помчались через кабинет отца во двор. Жена закрыла ладонью рот – и все равно вскрикнула, как будто выстрелили в неё.
– Что такое? – пробормотал Шульце.
Влетел маленький Фридеберт и не сказал, а закричал на отца:
– Папа! Он взял ружье! Он заперся в сарае! Он не открывает! Папа! Он же убил себя!! Папа, но он же был хороший!!
Директор Кох и учитель Шульце медленно двинулись во двор.
– Вильгельм, немедленно открой, – строго, но страшно волнуясь и давясь воздухом, потребовал отец. – Что за глупости? Отопри дверь!
– Что-то случилось? – проговорил Шульце, переводя взгляд с одного на другого.
– Вильгельм! – повысил голос директор Кох. – Отопри немедленно! Вильгельм! Ты меня слышишь?!
Жуткая судорога, что свела тело Коха еще в гостиной, была началом его агонии.
Будь тысячу раз проклято его желание что-то понять, и десять тысяч раз – его желание кому-нибудь объяснить то, что он понял. Ничего, кроме молчания, в этой жизни невозможно. Когда Густав и однокашники похабно смеялись над ним – он это вынес, потому что он верил родителям. Но когда то же самое сказал отец – при всей семье – и никто не возразил, вот тогда наступил конец. Кох ненавидел себя, эту жизнь, этот мозг, всё, что было когда-то им, Вильгельмом Кохом, сыном проходимца. О, это была самая страшная его тайна. Только ее не узнает никто. Кох прекрасно знал этого проходимца, он видел его постоянно во сне. Он говорил с ним, но считал его своим сном.
Они подняли матрас, они выгребли все его тайны и сокровища и над всем надругались, но самое главное о нем никто никогда не узнает, оно умрет в нем и с ним. Это были не сны, теперь Кох знал это точно. Сном было все остальное – неприятным, пропитанным ложью сном.
Это были видения, и в них жил человек. Кох теперь точно знал, что это и есть его Отец, его настоящий Отец, его Проходимец. Только с ним Кох мог говорить ночи напролет, показывать самолеты, с ним слушал удивительную мелодию из звуков флейты, которую неумело пытался повторить, когда был в доме один. С ним гулял в небесах – и с ним говорил обо всем. Этот человек колдовал формами и линиями, бесконечностью пространства, делая их ясными и простыми – как лента Мёбиуса, со множеством неявных, скрытых смыслов.
Лгал ли сам Кох – это вопрос, но то, что он жил во лжи, – это так.
Может, брат и сестры и любили его – ревут под дверью в голос. Мать любила, но, наверное, стыдилась его – потому что он её грех. Но за что точно Кох был ей благодарен – так это за ее Проходимца.
От выстрела Коха только подбросило вверх, вспороло грудь, раскрошило ключицу, вышибло плечо. Курок шел очень туго и соскочил. Теперь все не имело значения – кровь хлестала такой струей, что все равно все это сейчас закончится.
Дверь вышибли.
– Что ты наделал, Вильгельм?! – это закричал учитель Шульце.
Отец стоит как в столбняке. Кох отворачивается – он не хочет видеть этого человека.
– Вильгельм?.. Зачем?.. – тихо произносит отец.
Кох все-таки смотрит на него.
– Чтобы вам больше не стыдиться меня, господин директор. Я не вор и не лжец. Но – бесспорно – ублюдок, и с этим ничего не поделать.
Кох рад, что почти беззвучно, но он это сказал.
– Боже, какая ужасная рана! – морщится Шульце. – Скорее врача! Врача! Ради Бога – врача!!
– Ничего не надо, – это Кох говорит Шульце.
А может, и не говорит. Потому что больше он ничего не понимает, не видит, не слышит. Ему нисколько не жаль.
Когда Кох очнулся в бинтах, туго стягивающих его, говорить он мог. Рядом сидел начальник полиции и бледный, как смерть, его не-отец-отец.
Кох спокойно объяснил, что избили его мальчишки в школе, потому что он сам затеял первым на уроке драку. Отец, то есть господин директор, никогда его не бил и не ругал. Ружье он взял посмотреть без спросу – и нечаянно выстрелил в себя, это неосторожное обращение с оружием.
Лжец – так лжец, почему бы не солгать. Начальник полиции остался доволен его ложью. Отец-не-отец молчит, мать плачет, малышни нет, наверное, сосланы к теткам. А вот пить лекарства, вообще что-либо принимать от них – он точно не будет.
Как исключение – кроме врача – допускали Шульце, тот все маниакально твердил о каком-то великом будущем. Как бы не так. Но премия – это хорошо.
– Этого хватит, чтобы вернуть всё, что я украл у вас, господин директор? – губы Коха и сейчас еще подрагивают от гнева. – Не тратьтесь на врача, я не собираюсь жить. Я ненавижу себя за то, что я вас любил. Понимаете, господин Шульце, что как ни воспитывай ублюдка, но из него ничего кроме ублюдка не выйдет. Я ведь вас правильно понял, господин директор?
– Господа, уйдите все отсюда, – раздался голос за спинами сидящих и стоящих у постели. Вильгельм Кох, не поднимая глаз, улыбнулся этому голосу.
Кох не сразу позволил себе перевести взгляд на говорящего, вошедшего без звонка, стука и приглашения – его Проходимца, успел взглянуть на мать – покраснела и стремительно вышла. Значит, не ошибся.
– Все – вон! – категорично, непререкаемо сказал незнакомец, и все подчинились без единого возражения.
Проходимец закрыл за ними дверь очень плотно, подошел к постели, сел рядом – он, оказывается не бестелесный дух, он тоже из плоти и крови. Сел, смотрит в глаза, окинул пристальным взглядом скрытую – но не от его глаз – рану и откинулся к спинке кресла.
– Глупо, Вильгельм, – сказал он.
Было все равно, что он скажет, главное, что он пришел.
– Этого нельзя делать, ты понял это? Я не учил тебя этому. Ты обещаешь мне, что этого больше не будет. Никогда. Тогда я тебя забираю. Нет – лежи, умирай.
Кох дотянулся рукой до его руки, и незнакомец сам забрал его руку в обе свои.
– Что ты завелся из-за пустяка, Вильгельм? Это всё пустяки, понимаешь? Это не то, из-за чего следует швыряться жизнью. Закрой глаза, я немного подсоберу тебя – и поедешь со мной.
– Ты мой отец?
– Я твой учитель, и этого достаточно. Ты будешь называть меня господин Аланд.
Он взял нож и просто вспорол повязку. Кох дернулся, но «господина Аланда» это не интересовало.
– Ты, Вильгельм, дурак. Потрудись это запомнить. Повтори, чтобы я убедился.
– Я дурак. Я очень ждал вас.
– Твоя комната наверху?
– Да.
– Спи. Копи силы. Сейчас все улажу – и увезу тебя.
– Вы меня не оставите?
– Говорю же – дурак.
– Если б я знал, что вас только смертью можно вызвать, я бы давно снял со стены ружьё…
– Первое, что я сделаю, когда тебе станет лучше, так это выдеру тебя.
– А я поцелую вашу руку.
– Сильно сомневаюсь, Вильгельм. Огорчу тебя страшно, но я бы и так тебя забрал. А вот сможешь ли ты теперь летать – это вопрос.
– Смогу. Это не смерть, а пара пустяков.
– Нет, это не пара пустяков. Это я за ухо тебя держу – не то ты давно бы летел в тартарары. И подумай, хочешь ли ты уехать от доброго отчима. Я не отчим, я из тебя всю душу вытрясу за твои глупости – будешь, как пыль, летать и вспоминать о беззаботном детстве.
Кох улыбался.
– Слава Богу. Так я уже умер?
– Нет, Кох. Ты такой же дурак, как и был. А теперь молчи и спи.