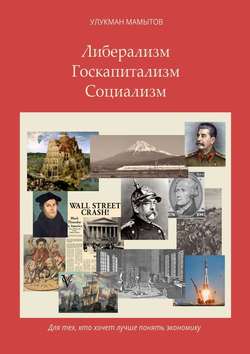Читать книгу Либерализм – Госкапитализм – Социализм. Для тех, кто хочет лучше понять экономику - Улукман Мамытов - Страница 18
Часть I. История капитализма
Глава 3. Эпоха Промышленной Революции
Войны и деньги в европейской истории
ОглавлениеДо 1945 года Европа практически всегда была ареной для бесконечных войн. Агрессивная конкуренция сначала за территории, а затем за торговые пути сделала войну основной движущей силой европейской истории. Современные контуры Европы, главным образом, были сформированы в результате множества жестоких войн Средневековья и последующих эпох. Историк Дезмонд Сюард так описывал одну из самых кровопролитных войн Европы – Столетнюю войну между Англией и Францией 1337—1453 годов:
Разграбление больших городов (таких как Кан в 1346 году) частично заменяло необходимость оплачивать войска, а также увеличивало доходы Английской Короны через долю короля в общей добыче. В некоторых случаях города могли откупиться и не быть разграбленными. Вдобавок, для пленников существовали большие вторичные рынки… Вся Англия была заполнена французской добычей, а вся затея напоминала совместное венчурное предприятие, где король был главным акционером. Дополнительным мотивом к разграблению было разрушение всех ресурсов, которыми могли воспользоваться при французском сопротивлении, и английские военные экспедиции во Францию упоминались как «chevauchee», или как бы мы сегодня назвали – «политика выжженной земли»139.
И хотя цену, в конце концов, всегда платил простой народ, войны в Европе никогда не прекращались.
Война стала главным стимулом для государственного строительства в Европе. Развитие государства было вызвано продолжительной геополитической военной конкуренцией, которая охватила континент начиная с конца XIV и начала XV веков. Постоянные войны вели к разрастанию аппаратов европейских государств. В это время, правителям требовались большие деньги для ведения войн и усиления государства. Война, деньги и развитие государственности стали взаимосвязаны в средневековой Европе… И извлечение доходов из территорий за пределами собственных юрисдикций, будь то через разграбление в войнах, колонизацию или империализм, стало важным источником доходов для европейцев140.
Военные расходы были всегда огромными, и временами даже занимали большую часть государственного бюджета.
Война включала не только рекрутирование и оплату войска. Государства должны были все время снабжать свои армии. В XVII веке обычная армия из 60000 человек с 40000 лошадей могла потреблять около миллиона фунтов еды каждый день: часть еды переносили с собой, а в основном приобретали по месту нахождения, но все это требовало хорошей организации и расходов. По ценам того времени миллион фунтов зерна было эквивалентно заработной плате 90000 средних рабочих. Вдобавок к пропитанию войскам были необходимы оружие, лошади, одежда и пристанище141.
С таким количеством расходов королей всегда беспокоили две проблемы: (1) каким должен быть оптимальный размер войска в постоянном распоряжении короля, и (2) как его финансировать142. Обычно войско страны состояло из небольшой постоянной дружины короля, дополняемой во времена войн дружинами вассальных феодалов, которые имели свои экономические ресурсы и военную силу. Из-за дороговизны постояннодействующих армий в XV – XVII веках – критическом периоде образования европейской государственности, во время войн стали все чаще привлекать наемников143, удобство использования которых стало ответом на первый вопрос. Ответ же второй вопрос нашелся с развитием высокомонетизированной экономики с использованием торгового и финансового капитала, и это показало свою высокую эффективность сначала в Венеции, затем в Голландии, а потом и в Британии в XVII – XVIII веках.
Таким образом, война не только создавала хороший стимул для развития государственности, но также толкала правителей на поиск и экспериментирование всех возможных, иногда агрессивных, методов пополнения казны. В конце концов, было развито два основных способа: налоги и заем. Короли занимали у всех, у кого могли, и под любыми возможными условиями.
Природа и уровень экономического развития государства являлись главным ограничителем военно-мобилизационных возможностей своих правителей. Государства с капиталом, сосредоточенным в городах, следовали по «капиталоемкому» пути государственного строительства. Среди таковых были коммерчески развитые Генуя, Швейцария и Голландия. Государства же, у которых не было доступа к капиталу, не могли себе обеспечить таких источников доходов. В больших сельскохозяйственных странах земельная аристократия мобилизовала крестьянское население через воинский призыв. Такими стали большие «основанные на принуждении» империи: Россия, Польша, Венгрия, Швеция и Пруссия. Самые успешные государства Европы пошли по капиталоемкому пути. Они смогли использовать богатства своих городов и их коммерческой активности и стали самыми развитыми и доминирующими странами Европы после XVII века. Позднее они стали великими нациями-государствами XIX века. Они стали доминирующими политическими организациями Европы именно из-за своего преимущества (финансового и военного) над конкурентами. Эти страны имели «доступ к комбинации из большого сельского населения, капиталистов и коммерциализированной экономики», что давало им военные преимущества. Нация-государство Европы стала моделью для всех остальных государств именно из-за своей мощной комбинации «принуждения и капитала»144.
Государства, которые могли быстрее занять деньги под залог будущих доходов теперь могли быстрее мобилизовать свои армии и имели лучшие шансы на успешную войну. Доступность кредита зависела от наличия финансистов и торговых капиталистов, а также от репутации правителя, как он выплачивал долги ранее. Система гарантий выплаты долга стала важнейшим фактором и обрела институциональные рамки в виде законов и концепции частной собственности. «Капиталисты стали обслуживать государства когда этого сами желали, как кредиторы и как держатели долгов», – писал Чарльз Тилли, «английские короли не хотели такого могущественного Парламента; они просто были вынуждены уступать своим баронам, а затем аристократии и буржуазии в процессе убеждения их занять денег на войну»145.
«Капиталисты – кто мог одолжить деньги – всегда существовали даже при отсутствии капитализма… На самом деле, большую часть истории капиталисты выступали как торговцы, предприниматели и финансисты, а не как непосредственные организаторы производства»146. Все исторически успешные страны хорошо иллюстрируют это: и Шумер, и Вавилон, и Греция, и Рим, и Финикия с Карфагеном, и Византия, не говоря уже о Венеции и Голландии.
На фоне политических и военных событий XVIII века в Европе росло влияние международных финансов, которое сопровождало и расширяющуюся международную торговлю, и более дорогостоящие войны между конкурирующими державами. В центре финансового развития было возникновение симбиоза двух финансовых центров Европы после 1720 года: Амстердама и Лондона. Торговые банкиры других коммерческих городов Европы также были важными участниками, особенно вдоль исторической Лотарингской оси, протянувшейся от Нижних стран до Средиземноморских портов Италии, в то время как новые центры финансов стали возникать на другом конце Атлантики147.
Знаменитая германская семья банкиров Фуггеров стала одним из крупнейших кредиторов европейских королей. Фуггеры занимали в крупных объемах в Антверпене и финансировали испанские войны, обанкротившие испанскую корону несколько раз. Под залог своих кредитов Фуггеры контрактовали будущее испанское серебро из Америки148.
В отличие же от испанцев, британцы смогли построить уникальную связь между государством и своими торговцами и финансистами, что дало британцам существенное преимущество «доступа к неограниченным средствам ведения войн, но только за счет больших уступок этим торговцам и банкирам»149. И это преимущество было институционализировано в форме гибкого фондового рынка капиталов и Лондонского Сити, а также защите интересов британской торговли в Парламенте страны, где заседали ее представители, – все это было закреплено законами, защищающими интересы большого капитала и, самое главное, «зацементировано» концепцией частной собственности. Теперь все это вместе и олицетворяло могущество Британского государства.
И, тем не менее, частный капитал – все эти торговцы и финансисты – использовал для своего роста и безопасности именно государственный ресурс. Голландская Ост-Индская компания была уполномочена и поддерживалась государством, английские королевские судостроительные верфи были ведущей и самой концентрированной индустрией в стране, с важнейшей стратегической значимостью защиты Британских островов от нападения с континента, а также защиты торговли и доминирования на морях. Государство и государственные институты стали важной системной структурой, обеспечивающей возможность развиваться частному капиталу. И теперь чем сильнее становилось такое государство, чем надежнее работали принятые Парламентом законы, тем спокойнее развивался и увеличивался частный капитал.
Процесс становления современной системы национальных государств еще более установился по итогам Тридцатилетней войны 1618—48 годов – одной из самых масштабных и жестоких войн в истории Европы. Вестфальский мир 1648 года существенно реорганизовал Западную Европу, собрав вместе 145 представителей разных государств и определив между ними новые границы по итогам войны, а также установив новые правила международных отношений. Швейцарская Конфедерация и Голландская Республика были определены как суверенные и неприкосновенные государства, что было, в первую очередь, направлено против растущей Франции – извечного соперника Британии. Однако Вестфальский мир определял неприкосновенность границ только в Европе, что подтолкнуло Голландию, Францию и Англию к активной экспансии в поисках колоний, развивать внешнюю экономику на торговле, сахаре, табаке и рабах150. Колонизация новых земель и необходимость увеличения армий стимулировали развитие рекрутинговой системы всеобщей воинской повинности при растущем населении. В конце концов, те страны, которые «рекрутировали и поддерживали большие армии из своих собственных народов, а именно Франция, Британия и Пруссия, стали моделями для подражания и для всех остальных государств»151.
Франция, однако, несмотря на постепенное становление доминирующей державой в Западной Европе благодаря хорошей географии и растущему населению, так и не смогла достаточно развить свою финансовую систему, как это удалось голландцам и британцам, и из-за этого существенно отставала.
Если бы Наполеон хорошо понимал возможности голландских финансов для финансирования и снабжения своих армий, то вполне смог бы установить свою империю над всей Континентальной Европой. Однако вышло так, что, несмотря на его выдающиеся способности по преобразованию французских финансов и французской армии, он так и не смог успешно скоординировать банки, рынки капиталов и финансовое регулирование во Франции, а также не уделил достаточного внимания финансовым институтам союзных королевств… Его постоянные вмешательства в управление национальным долгом постоянно вводили в замешательство его ответственного министра графа Моллиена. Затем, его настойчивость в наложении массивных ежегодных контрибуций на союзные королевства, повышением их налогов подорвало легитимность новых режимов, которые он создал по всей Континентальной Европе152.
Британия вела множество войн: против американцев, против французов, против испанцев и постоянно занимала много денег, в то время как Франция испытывала серьезные трудности с финансированием своих войн и даже была на грани банкротства. Британия же, как показывает история, нашла способ решения этой проблемы и не только своевременно оплачивала и снабжала свои военные силы, но даже нанимала немецких солдат.
Британия «нашла секрет кредита», – писал Кэрролл Квигли, и этот секрет стал самым критическим фактором ее дальнейшего экономического развития, позволив построить самую мощную морскую силу, которая не только смогла защитить экономику, но и осуществлять агрессивную внешнюю экспансию. Так, в результате Войны за Испанское наследство в 1701—13 годах Британия стала лидирующей колониальной державой, захватив новые территории: Ньюфаундленд, Новую Шотландию, Территории Гудзонова залива, Гибралтар и Минорку, с правом доступа к испанским колониальным портам и правом поставки на них рабов. Семилетняя же война с Францией в 1756—63 годах сделала Британию еще сильнее, в то время как Франция уступила Канаду и стала еще слабее, даже по сравнению с результатами Войны за Испанское наследство.
В 1805 году, объединенные силы испанского и французского флотов потерпели сокрушительное поражение от британцев под командованием адмирала Нельсона при знаменитой Трафальгарской битве, и это превратило Британский Королевский флот в фактического хозяина над Атлантическими торговыми путями, так же, как и в Азиатской торговле. Венский же Конгресс 1815 года добавил к Британской Империи Цейлон, мыс Доброй Надежды, Тобаго, Сент-Люсию, Маврикий и Мальту153.
Так, «поняв секрет кредита» для ведения войн, Британия стала первой, по-настоящему глобальной супердержавой, контролирующей все основные моря и торговые маршруты. Британская военно-морская мощь обеспечила надлежащее развитие экономики, которая в свою очередь поддерживала британскую военную силу. Это стало уникальным сотрудничеством между британским правительством и торгово-финансовыми кругами, между государством и частным капиталом – их интересы совпадали. И военное принуждение стало одним из главных инструментов британского глобального доминирования и британского экономического развития.
139
Seward, D. The Hundred Years War: The English in France, 1337—1453. 1982. Процитировано у Conybeare, 1987. С. 95.
140
Pollack, S. War, Revenue, and State Building: Financing the Development of the American State, Cornell University Press, 2009. С. 20.
141
Tilly, C. Coercion, Capital, and European States: AD 990—1990. 1990. С. 81.
142
Там же. С. 55.
143
Parrot, D. The Business of War: Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe. 2012; Thomson, J. Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe. 1994; Tilly, 1990.
144
Tilly, 1990, процитировано у Pollack, 2009.
145
Tilly, 1990. С. 85—6, 64.
146
Tilly, 1990. С. 17.
147
Neal, 2015. С. 100.
148
Tilly, 1990. С. 86—7.
149
Tilly, 1990. С. 159.
150
Neal, 2015. С. 52.
151
Tilly, 1990. С. 76.
152
Neal, 2015. С. 134.
153
Tilly, 1990. С. 168—9.