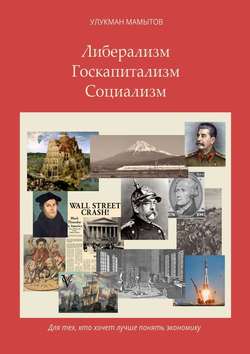Читать книгу Либерализм – Госкапитализм – Социализм. Для тех, кто хочет лучше понять экономику - Улукман Мамытов - Страница 26
Часть I. История капитализма
Глава 4. Расцвет и кризис капитализма в XIX веке
От империализма к Первой Мировой войне
ОглавлениеЕсли первая промышленная революция основывалась преимущественно на инновациях в механике, то вторая больше стимулировалась новыми научно-техническими достижениями, не связанными с механикой. Основными продуктами второй революции стали химикаты и производство стали, тогда как в качестве энергетических источников стали развиваться электричество и двигатель внутреннего сгорания257.
Продвижения в химии, особенно в части применения к текстильному производству, стали особенно важными, так как новые химические красители (вытеснившие натуральные из Америки и Азии) стимулировали развитие нового направления – химической инженерии. Быстрое развитие химической промышленности, так же как и фармацевтики, началось в 1880-х годах одновременно в Соединенных Штатах и Европе. Особенно это ощущалось в Германии, которая недавно объединившись и встав на путь ускоренной индустриализации путем умной мобилизации ресурсов, использовала связку промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами при университетах (эта стратегия будет затем принята на вооружение и в США) и обеспечила, таким образом, лидерство Германии в Европе. К 1913 году от общего в мире производства красителей объемом в 160000 тонн, 140000 тонн приходилось на Германию, в то время как на Швейцарию приходилось 10000 тонн, на Британию – первопроходца в индустрии – всего 4000 тонн, а все остальное было распределено между Францией, США и другими258.
Три немецких гиганта – Bayer, BASF и Hoechst – создали первые в мире крупные научно-исследовательские лаборатории и стали не только пионерами в химической и фармацевтической индустриях, но и заложили основы современного организационного управления в крупных научно-технологических предприятиях259. Hoechst, например, занявшийся фармацевтикой в 1880 году, стал финансировать Институт Роберта Коха в Берлине, где работали ведущие мировые ученые Эмиль фон Беринг и Пауль Эрлих, разрабатывавшие сыворотку от дифтерии, вакцины, болеутоляющее средство Новокаин, наконец-то ставший спасением от сифилиса Салварсан, и другие фармацевтические препараты260.
Лозунг «конкуренция за рубежом – сотрудничество дома» стал лейтмотивом германского промышленного развития. Два крупнейших электрических гиганта Siemens и AEG договорились о разделе сфер влияния и, таким образом, минимизировали деструктивные расходы, связанные с конкуренцией, став крупнейшими глобальными игроками к 1914 году261.
Другой сферой бурного промышленного развития стало производство железа. В середине 1880-х годов инновационные методы пудлингования Корта и паровой молот Уилкинсона существенно снизили себестоимость производства стали и увеличили производительность почти в 10 раз. Увеличившееся предложение железа и стали на рынке сильно стимулировало рост количества новых железных дорог, мостов и других строений262. В 1900 году мировое производство стали составило 28,3 миллиона тонн, что было в 400 раз больше по сравнению с полувеком ранее.
Обширный американский рынок по растущему населению и потребности в масштабном инфраструктурном строительстве особенно стимулировали развитие американской стальной промышленности. Общая капитализация американского стального гиганта US Steel, созданного в 1901 году и принадлежащего Джону Пьерпонту Моргану, составила 1,4 миллиарда долларов, в то время как бюджет страны составлял 350 миллионов, а национальный долг около 1 миллиарда263.
Подешевевшая сталь стимулировала не только масштабное инфраструктурное производство, но и вызвала появление множества потребительских товаров, таких как автомобили, швейные машинки, электрическое оборудование, а это также стимулировало рост производства промышленного и фабричного оборудования, способствовавших еще большему развитию химической, сельскохозяйственной, текстильной и бумажной отраслей. В этом смысле, удешевляющаяся сталь подействовала как катализатор роста для мировой экономики264.
Однако вскоре эйфория бурного глобального экономического роста стала натыкаться на первые системные проблемы. Подешевевшие транспортные морские коммуникации между континентами увеличили массивный приток дешевого продовольствия на европейские рынки. Зерно с равнин Северной Америки и степей юга России, импорт мяса из Аргентины и фрукты с тропических регионов увеличили их потребление европейцами, повысив их жизненные стандарты. Общемировому падению цен кроме глобализированной растущей конкуренции стало способствовать развитие новых технологий переработки продовольственных товаров – консервирования и охлаждения265.
Это была самая драматическая дефляция [падение цен] в памяти человека. Процентные ставки упали тоже… капитала было так много, как будто он стал бесплатным товаром. А прибыли сжались. То, что казалось лишь периодическими депрессиями, стало тянуться бесконечно. Экономическая система шла вниз266.
Великобритания теперь больше не была единственной мастерской всего мира, то есть перестала занимать исключительную верхнюю позицию в глобальной системе разделения труда. Конкуренция возрастала и ужесточалась, особенно со стороны молодых индустриальных государств – США, Германии и Японии, успевших догнать Великобританию на основе протекционизма Гамильтона, Фридриха Листа и Нариакиры Шимазу. Экономическое развитие превращалось в экономическую борьбу между несколькими центрами силы.
Оптимизм насчет будущего с бесконечным прогрессом уступил место неопределенности и чувству агонии… Все это усиливалось обострившимся политическим соперничеством, двумя формами конкуренции, слившимися на финальной стадии: нехваткой земли и погоней за сферы влияния, что стало называться Новым Империализмом267.
Французская экономика, будучи слабее британской и немецкой, пострадала особенно. Ее производство железа и стали упало с 15,4% в 1860 году (Британия 66,4% и Пруссия 6,8%) до 12,8% к 1870 году, тогда как Британии 65,8%, а у Пруссии 13%268. Французские сельское хозяйство и промышленность требовали возврата политики протекционизма, завершая эпоху свободной торговли 1860-х годов. После объединения в 1861 году итальянская политика протекционизма своей промышленности вызвала в 1878 году конфликт с Францией, когда Италия повысила тарифы на текстиль, основную статью экспорта Франции в Италию. Новая протекционистская политика Италии и России заставила французское министерство коммерции повысить импортные пошлины до 24%. После Италии тарифная война развернулась и со Швейцарией в 1892—95 годах269.
Германия вступила на путь протекционизма и картелизации своей промышленности в 1869 году, еще более усилив такую политику в 1880-х. Тарифы увеличивались в 1879, 1890, 1902 и 1906 годах. Между 1879 и 1885 годами было организовано 76 картелей. Франция поднимала тарифы в 1875, 1881, 1892, 1907 и 1910 годах. Соединенные Штаты, поддерживавшие высокие тарифы еще в годы Гражданской войны, подняли их снова в 1890 и 1897 годах. Швейцария, Италия и Россия также не оставались в стороне. В результате таких повышающихся торговых барьеров, рост мировой экономики стал сжиматься в период между 1870 и 1914 годами, и многие отрасли промышленности во всех ведущих странах существенно пострадали270.
Политика экономического национализма вызвала увеличение международных трений, и, в ответ, европейские правительства стали постепенно увеличивать свои военные расходы… С ростом такого экономического национализма, торговой политики «разори соседа» (beggar-thy-neighbor), а также картелизации, правительства стали надеяться, что колонии обеспечат рынок для производственных товаров и станут источниками нового сырья271.
В 1877 году Франция попыталась ограничить британскую торговлю вдоль западного побережья Африки, что вызвало сильную реакцию в Лондоне, и к 1881 году спираль взаимных обвинений раскрутилась в полную силу. Французская оккупация Туниса в 1881 году повлекла за собой британскую оккупацию Египта в 1882, а затем их взаимный и острый конфликт за Конго. Опасаясь, что «дверь» в Африку скоро закроется, Бисмарк также стал стремиться «застолбить» для Германии кусочек африканской земли на северо-востоке и на юге272.
На востоке Европы русско-германские отношения также стали ухудшаться после того, как Германия подняла тарифы в 1880-х годах на российское сырье и сельскохозяйственный экспорт. Ответные меры русских негативно повлияли на немецкую химическую и стальную отрасли273.
Британская экономика стала падать вслед за ухудшением позиций ее производственного сектора. Если ее доля в мировом производстве в 1870 году составляла около 32% против немецких 13%, то уже к 1900 году она упала до 20%, в то время как доля Германии увеличилась до 17%. По железу и стали, если в 1870 году Британия производила 61% от общего объема производства пяти стран – Британии, Франции, Германии, США и России, а Германия всего 13% и Россия 4%, то к 1900 году Германия уже производила 40%, Британия 30%, а Россия 13%274. Германский экспорт стал всюду угрожать и вытеснять британский, что уже серьезно нервировало Лондон и ставило вопрос на грань конфликта.
Падение экспорта заставило британцев в конце 1880-х годов задуматься о прекращении своей либеральной политики свободной торговли и открытых рынков, и создании своего закрытого таможенного союза, аргументируя тем, что только система Имперских Преференций может спасти Британию от растущей германской и американской производительности. Рынки для Британии находились внутри империи, так как географически она все еще была самой обширной. Например, только две ее южноафриканские колонии – Кейп-Колони и Наталь составляли половину всего британского экспорта в 1896—1900 годах275.
Эра неомеркантилистского протекционизма и империалистской агитации превращала экономические и геополитические конфликты во взаимно усиливающуюся игру с нулевой суммой… В эту эру обновленного меркантилизма, рыночное доминирование стало ассоциироваться с территориальным контролем или политической монополизацией стран-объектов. Это мнение постоянно раздавалось во всех сегментах бизнес-сообщества, политических кругах и влиятельных медиа-структурах во всех развитых странах276.
В итоге, колониальная политика стала результатом одновременной индустриализации многих государств, с ростом протекционизма и закрытия существующих рынков. Колонии оставались единственным выходом, куда все еще можно было сбывать произведенную продукцию и поддерживать экономику.
Европейские державы встали на путь империализма из-за давления капиталистических фирм, страдающих от перепроизводства и недопотребления дома… В то время, как финансовый капитал концентрировался в руках все меньшего и меньшего количества фирм и банков, на рынке было недостаточно спроса от низкооплачиваемых рабочих для абсорбирования всей продукции, выработанной высокоэффективными заводами. Столкнувшись с неиспользованными мощностями, могущественный бизнес-класс после 1880 года стал толкать своих лидеров на захват колоний в качестве рынков для излишков продукции и мест, куда инвестировать излишний капитал277.
В своем труде «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916), Владимир Ленин писал, что правительства капиталистических стран, толкаемые могущественными бизнес-кругами, в конце концов, сталкиваются в геополитических конфликтах друг с другом за экономическую эксплуатацию новых территорий в качестве своих рынков, после того, как они заполняют свои. Эту стадию Ленин назвал «империализмом» – высшей стадией монополистического капитализма, который неизбежно следует в результате нормальной логики развития капиталистического уклада экономики. Ленин развил свой тезис на основе экономической теории, сформулированной Карлом Марксом в своей знаменитой книге «Капитал» (1867), где он писал, что капитализму присуща необратимая тенденция падения нормы прибыли в результате усиления конкуренции. Конкуренция и перепроизводство толкают цены вниз и, в целях сохранения прибылей, большой капитал должен поглощать конкурентов, что, в конце концов, неизменно приводит к концентрации и централизации капитала в руках небольшой группы могущественных и влиятельных олигархов. Новые территории обещают новые возможности прибылей, и такая экспансионистская политика, неизбежно, влечет за собой конфликты между странами, настраивает народы против народов и, в конце концов, достигает апогея в войнах278.
Рудольф Гильфердинг в своей книге «Финансовый капитал» писал:
..это была последняя стадия капитализма перед неизбежным приходом социализма. В капиталистической экономике… маржа между тем, что банки платят за деньги и что они взимают за них, неуклонно расширяется. В результате, банки и банкиры становятся единственными выгодополучателями и властителями капиталистической экономики279.
Гильфердинг считал, что нормальное течение экономических отношений при капитализме влечет к возникновению картелей в промышленности, а в банковской сфере к возникновению центрального банка280.
Под занавес XIX века, хотя в реальной индустриальной экономике и наблюдались кризисы перепроизводства и застоя, финансовый капитализм, тем не менее, развивался хорошо. Развитие стимулировалось новым притоков золота из Южной Африки начиная с 1887 года, из западной Австралии с 1887 года и из американского Клондайка с 1896 года. Трансатлантическая экономика стала финансово подкрепляться классическим золотым стандартом 1880—1914 годов281. Новые технологии второй промышленной революции стимулировали финансовый сектор, и акции новых компаний, занятых в новых отраслях, активно продавались на фондовых рынках Нью-Йорка и Лондона. По некоторым оценкам, в 1910 году в мире циркулировали акции публичных компаний на сумму в 32,6 миллиардов фунтов стерлингов, и которыми владело около 20 миллионов инвесторов: британцы 24%, американцы 21%, французы 18%, немцы 16%, русские 5%, австро-венгры 4% и по 2% итальянцы и японцы282.
Как обычно, вначале нормальное функционирование фондового рынка, в конце концов, привело к чрезмерному развитию спекулятивных операций, и Франция в 1893—98 годах приняла ряд законов, ограничивающих иностранное владение ценными бумагами. Схожие шаги предприняла и Германия, усилив регулирование рынка. Такие меры были приняты из-за растущих опасений, что спекулянты могут не только пострадать сами, но и нанести вред всем остальным, манипулируя рынком и повышая риски обрушения всей экономики. Власти пытались изгнать спекулянтов и переориентировать инвестиции в реальный сектор экономики283.
Однако в Америке спекуляции на фондовых рынках воспринимались нормально и даже позитивно, отражая дух «американской мечты» о возможностях каждого заработать быстрые и большие деньги. Это особенно подкреплялось появлением новых технологий, которые создавали убедительную атмосферу быстрого технологического прогресса и экономического роста. Также быстрый рост американской экономики стимулировался отсутствием обременяющих налогов в США, так как бюджет формировался за счет высоких таможенных тарифов из-за протекционистской политики со времен Гражданской войны, и это стимулировало приток инвестиций из-за рубежа, усиливая доллар284.
Тем не менее, чрезмерная финансовизация и спекуляции не могли не вызвать нескольких финансово-банковских кризисов в 1884, 1890, 1893 годах и самый крупный – в 1907 году. Известный как «Паника 1907 года», этот кризис заставил пересмотреть основы банковской системы США, когда банкротство сразу нескольких больших банков стало серьезно угрожать всей финансовой системе и экономике США. Одновременный наплыв вкладчиков поставил банки на грань разорения, так как удовлетворить требования одновременно всех в условиях отсутствия резервных денег не представлялось возможным.
И как показывает история, этим шансом очень умело воспользовался знаменитый банкир Джон Пьерпонт Морган, продемонстрировав свой гений в организации спасения всей американской банковской системы. Согласно легенде, Морган, организовав в своем офисе временный штаб операции, фактически ставший временным центральным банком, занял 42 миллиона долларов от правительства и использовал их для выкупа проблемных долгов банков, а также смог скоординировать процесс взаимозачета между разными фирмами и банками. В итоге, даже его основные конкуренты Рокфеллер и Гарриман, согласившись с эффективностью его операций, присоединились к нему. Кризис был погашен, а авторитет Моргана среди банкиров теперь не подлежал никакому сомнению285.
Сразу же после кризиса, для избежания таковых проблем в будущем в 1908 году в США была создана Национальная Монетарная Комиссия, которая подготовила около 30 отчетов и докладов о причинах и путях решения таких кризисов, и рекомендовала создание центрального банка, который должен был обеспечить аварийное кредитование для проблемных банков, аналогично операциям Моргана, и предотвратить цепную реакцию банкротств286. Банкиры и финансисты видели слабость банковской системы США в «неэластичности» и государственных ограничениях в печатании денег. Все хотели создания в США такого же мощного банка как Банк Англии или немецкий Рейхсбанк, которые являлись кредиторами последней инстанции и страховали коммерческие банки от банкротств. В конце концов, это привело к созданию в 1913 году Федеральной Резервной Системы, выполняющей роль центрального банка США.
С мощной промышленной и банковско-финансовой базой, а также большой территорией и растущим населением Соединенные Штаты становились новой мировой державой, играющей все большую роль в мировой геополитике. Другим растущим гигантом, к удивлению многих, была Россия, всегда на Западе казавшейся отсталой. Железные дороги способствовали активизации экономики, а растущее население быстро осваивало обширную территорию с ее ресурсами.
Неудивительно, что в начале XX века многие европейцы начали ощущать, что Европа неизменно будет затмеваться этими двумя разрастающимися на Восток и на Запад колоссами. В 1883 году британский историк сэр Джон Сили написал, что Россия и Соединенные Штаты были уже «огромными политическими формированиями», чья скрытая мощь, однажды будучи мобилизованной «паром и электричеством», а также железными дорогами, может полностью «превратить в карликов такие европейские страны, как Франция и Германия, и отодвинуть их ко второму классу»287.
Алексис де Токвиль в своей книге «Демократия в Америке» писал: «В настоящее время в мире только две великие нации, у которых будет одинаковое будущее, хотя они и начали с разных точек: я подразумеваю русских и американцев… Их начальные точки были разными; однако каждая из них кажется отмеченной волей Неба для оказания влияния на судьбы половины мира»288.
Расширение России далеко на восток, а также вглубь Центральной Азии, вызвало в XIX веке острую конфронтацию с Великобританией, которая также с территории Индии пыталась продвинуться вглубь Центральной Азии с юга через Афганистан. Это геополитическое соперничество получило известность как «Большая игра» между Российской и Британской империями за стратегический контроль над Центральной Азией. В 1904 году английский геополитик Халфорд Маккиндер представил в Королевском географическом обществе свою теорию так называемого «Хартленда» (Heartland), где назвал всю обширную территорию России и примыкающую к ней с юга Центральную Азию «основным центром» (the Pivot Area) или «Хартлендом» не только Евразии, но и всего мира. Смысл «Хартленда» Маккиндер сформулировал так:
Кто управляет восточной Европой, тот управляет «Хартлендом»; кто управляет «Хартлендом», тот управляет островом мира; а кто управляет островом мира, тот управляет всем миром289.
С ростом России как «Хартленда» и развитием в стране железных дорог в Европе стала снижаться роль морской военной мощи, традиционно игравшей важнейшую роль в ее геополитической истории. Теперь Россия могла быстрее мобилизовать ресурсы со своих отдаленных регионов и перебрасывать свою огромную по численности армию на большие расстояния, и железные дороги стали приобретать стратегически важное значение, как для общей индустриализации страны, так и в военном отношении. Например, в начале века уже около 37% всего экспорта и более 90% критически важного для России зернового экспорта транспортировалось по железным дорогам до черноморского российского порта в Одессе, а затем оттуда морем в Европу290.
Однако отсталость страны и нехватка капитала затрудняли всеобщую модернизацию, вынуждая государство брать на себя активную роль и искать капитал за границей. Инвестиции пришли из Франции (при поддержке Великобритании), чей излишек капитала искал зарубежные точки приложения. В итоге, такая взаимосвязанность французских инвестиций с российской экономикой способствовала установлению франко-российского альянса до начала Первой Мировой войны в 1914 году.
Для Германии же такой альянс России с французами, а также развитие ее железных дорог с их важным военным значением стали казаться угрозой, и она стала всерьез готовиться к кажущемуся неизбежным военному противостоянию.
Войны Германии против системы в 1914 и в 1939 годах были в меньшей степени функцией экономической взаимозависимости per se, а в большей степени были вызваны страхом Германии от долгосрочного роста русского колосса. Россия после 1890 года и особенно после 1930 быстро строила свою индустриальную и инфраструктурную мощь. Имея в три раза больше населения и в сорок раз больше территории, становилось очевидным, что достижение Россией экономического и военного доминирования будет трудно остановить291.
Набрав мощные темпы индустриального развития, Германия уже в 1897 году прекратила экспортировать железную руду, используя ее для собственных промышленных нужд, а к 1913 году даже стала больше импортировать. Завоз руды из Франции вырос в 6 раз в 1900—13 годы, в то время как Швеция – основной поставщик Германии, установила экспортные ограничения292. Однако, с постепенным усилением напряженности между странами, вызванной, в том числе, протекционизмом, опасения немцев о возможном скором прекращении поставок руды и продовольствия, все более усиливались.
Все большую озабоченность немцев вызывало растущее военно-политическое окружение Германии Францией, Россией и Британией, которые стали все больше препятствовать германской коммерции по всему миру. После 1897 года Британия и США стали работать в тандеме в отклонении германских претензий на территориальные завоевания в южном полушарии; несмотря на все свои усилия, например, Германия получила всего лишь малые кусочки земли в Самоа и Китае. В обоих Марокканских кризисах 1905 и 1911 годов, Британия помогала Франции в политическом контроле над Марокко, что увеличило препятствия для немецкой экспортной торговли и доступ к сырьевым ресурсам… В одном из самых важных районов – Ближнем Востоке, Британия также активно взаимодействовала с другими державами для минимизации немецкого экономического проникновения. В 1901 году Британия получила свою первую нефтяную концессию в Персии, а в 1907 году пришла к соглашению с Россией о разделе Персии на сферы влияния в рамках кампании по ограничению дальнейшего расширения Германии в развитии ее проекта Берлинско-Багдадской железной дороги293.
Проект Берлинско-Багдадской железной дороги, которая должна была обеспечить доступ Германии через Константинополь, Алеппо и Багдад к Персидскому заливу, означал для всех угрожающий рост Германской экономической мощи. Мощное развитие немецкой промышленности, поддерживаемое немецким правительством и немецкими банками намного лучше, чем это было в Британии, стало фактором озабоченности для всех европейцев. К 1910 году у Германии уже был сравнимый по численности флот с Соединенными Штатами, а по тоннажу был всего в 4 раза меньше британского, в то время как в 1887 году был в 10 раз меньше294.
Все это способствовало объединению Франции и Британии против Германии. Россия же также дала себя уговорить Британией приостановить «Большую игру» и сформировать «невозможную» Антанту295.
В итоге, рост пессимистических ожиданий от торговли и всеобщего падения экономики поставил немецких лидеров перед выбором большой войны в июле 1914 года. Этому способствовали препятствование Британией выхода Германии к богатому нефтью Ближнему Востоку и богатой ресурсами Африке, французская угроза по поставкам железной руды, а также высокие французские и российские тарифы, ограничивающие рост Германии против «экономических империй» Британии и Соединенных Штатов. Германские лидеры поняли, что только большая война может обеспечить экономическое доминирование в Европе, необходимое для долгосрочного выживания Германии296.
Окруженная Францией, Британией и Россией, Германия стала планировать войну на два фронта, что прежде категорически не рекомендовалось Бисмарком и легендарным Мольтке (старшим), которые успешно спланировали и реализовали победоносные войны против Дании, Австрии и Франции всего лет сорок назад. План Шлиффена, сформулированный еще в 1905 году, предусматривал молниеносную войну (блитцкриг) сначала против Франции, из расчета, что большая и неуклюжая Россия будет мобилизовываться не менее двух месяцев, а затем уже, победив к тому времени французов, приняться за Россию. Однако, как это нередко бывает в реальности, события пошли по другому сценарию, и Россия, вопреки многим военным правилам, вступила в войну немедленно, тем самым нарушив планы Германии и, фактически, спасая Францию за счет потерь своей недостаточно подготовленной армии. Эта «Великая война», в итоге, растянулась на долгие четыре года и повлекла миллионные жертвы, обескровила ее участников в Европе, но и открыла дорогу для растущего влияния США.
257
Lipsey и др., 2005. С. 254.
258
Chandler, A. Shaping the Industrial Century: The Remarkable Story of the Evolution of the Modern Chemical and Pharmaceutical Industries. Harvard University Press, 2005. С. 116.
259
Chandler, 2005. С. 115.
260
Там же.
261
Chandler и др., 1997.
262
Bernstein, 2004. С. 220.
263
Smith, 2003. С. 92.
264
Marsh, 2012. С. 8.
265
Landes, 2003. С. 242.
266
Там же. С. 231.
267
Landes, 2003. С. 240—241.
268
Copeland, D. Economic Interdependence and War. Princeton University Press, 2015. С.390.
269
Copeland, 2015. С. 390.
270
Lewis, 2007. С. 35.
271
Там же. С. 36.
272
Copeland, 2015.
273
Conybeare, 1987. С. 192.
274
Copeland, 2015.
275
Copeland, 2015. С. 414—15.
276
Anievas, A. Capital, the State, and War. University of Michigan Press, 2014. С. 76.
277
Copeland, 2015. С. 387.
278
Kurz, H. Economic Thought: A Brief History. Columbia University Press, 2016.
279
Процитировано у Drucker, P. Post-Capitalist Society. Harper Business, 1994. С. 166.
280
Kurz, 2016.
281
Neal, 2015. С. 210.
282
Smith, 2003. С. 102.
283
Там же. С. 93—94.
284
Lewis, 2007. С. 32.
285
Хазин, М. и Щеглов, С. Лестница в небо: диалоги о власти, карьере и мировой элите. Москва: РИПОЛ, 2016.
286
Smith, 2003. С. 100; Neal, 2015. С. 229—30; Хазин и Щеглов, 2016.
287
Tanaka, A. The New Middle Ages: The World System in the 21st Century, 2002. С. 3.
288
Процитировано у Tanaka, 2002. С. 3.
289
Mackinder, H. Democratic Ideals and Reality, 1919. С. 150.
290
Anievas, A. Capital, the State, and War: Class Conflict and Geopolitics in the Thirty Years’ Crisis, 1914—1945. The University of Michigan Press, 2014.
291
Copeland, 2015. С. 112.
292
Copeland, 2015. С. 127.
293
Copeland, 2015. С. 126.
294
Maloney, A. The Berlin-Baghdad Railway as a Cause of World War I. / Naval Studies Group, Center for Naval Analyses. 1984. С. 3.
295
Там же. С. 15.
296
Copeland, 2015. С. 133.