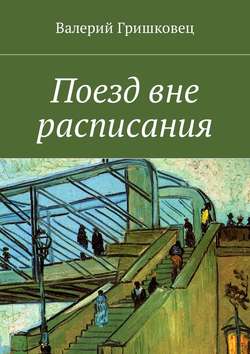Читать книгу Поезд вне расписания - Валерий Фёдорович Гришковец - Страница 12
ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ
Сохраним память
ОглавлениеПеределкино. Лето 1998 года. Дачный поселок писателей. Приехал к приятелю, отдыхающему здесь в Доме творчества, идем в магазин купить водки и что-нибудь закусить. На главной магистрали поселка писателей, улице Серафимовича, тихо, пустынно. Улица довольно широкая, положен асфальт, так что просторно и удобно идти. По обе стороны – высокие, под самое небо, отливающие вековой синью могучие ели; внизу заборы, крашенные, как правило, в такой же успокаивающий иссиня-зеленый цвет. Словом, дачная идиллия.
На заборе, то тут, то там – что-то вроде листовок. Подходим, читаем. Так и есть – воззвание к дачникам, к отдыхающим туристам, экскурсантам. Приезжают сюда на экскурсию, как правило, в Дом-музей Бориса Пастернака. Музей хорошо разрекламирован, широко известен. И туристы, в том числе и иностранные, в писательском поселке не редкость, и идут они в первую очередь в Дом-музей Пастернака. Хотя сам писательский поселок, без преувеличения, музей под открытым небом…
Хорошо помню, как в конце восьмидесятых – самом начале девяностых бились за дом Пастернака писатели-демократы. И отстояли, спасибо им. Не было бы у нас Дома-музея Пастернака, а был бы обычный дачный дом. В нем, в лучшем случае, жила бы писательская семья (или несколько семей), а так, повторяю, общественность имеет возможность прикоснуться к святая святых – тайнам творчества «великого русского поэта, лауреата (правда, Борис Леонидович, как известно, отказался от нее по велению сверху) Нобелевской премии Бориса Пастернака».
Очередное воззвание о том же: «Отстоим дом Булата» – огромный заголовок черными буквами по снежно-белому листу бумаги. Текст воззвания – в лучших традициях российской критики последних лет: «Великий поэт», «Совесть нации», «Наша эпоха», «Наша любовь»…
– Слушай, – спрашиваю у приятеля, известного московского поэта, прозаика и переводчика (все это, разумеется, в прошлом, так как в настоящее время талантливый литератор занят, прямо скажем, побочной окололитературной работой, приносящей хоть какие-то деньги; иной работы сегодня у московских писателей практически нет), – сколько в Переделкино домов-музеев?
– Два, Пастернака и Чуковского.
– Странно… Столько выдающихся писателей, поэтов здесь жили, и всего – два дома-музея…
– По-моему, все правильно. К чему все эти музеи? Лучший памятник писателю – книга. Вспомни Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Все прочее – от лукавого.
И все-таки, тут жили и Фадеев, и Катаев и Симонов… да что там, весь цвет советской литературы! Это же история.
– Кстати, в этом доме, – мой приятель указал в глубь темного из-за частых, огромных деревьев двора, – жил Александр Чаковский. Теперь это – собственность Владимира Познера. А вон в том доме, – мой приятель кивнул головой в противоположную сторону и немного вперед, – жил как раз Симонов.
– А теперь?
– А теперь… а теперь здесь никто не живет. Так, купили и…
Тут из калитки впереди нас высыпала шумная толпа и повернула в нашу сторону. Впереди, я узнал его сразу, – Михаил Козаков. Он приветливо и с достоинством поздоровался с нами, на ходу приобнял за плечи моего приятеля и так же шумно удалился, сопровождаемый тремя почтенными дамами.
– А в том доме жил Владимир Солоухин.
– И что?
– А теперь Владимир Вигилянский живет.
– Кто это?
– Священник.
– Священник, в писательском доме?
– Ты что, не знаешь Вигилянского? – посмотрел на меня приятель. – Он известный критик. Правда, в прошлом. Лет семь – десять назад ни один номер «Огонька» без него не обходился. Неплохо писал. И много.
– Но все-таки Владимир Солоухин, – как бы оправдывал свое невежество я, – согласись, величина в русской литературе не меньше того же Окуджавы…
– Оставь. Кому теперь нужен Солоухин? – оборвал меня приятель. – За Вигилянского сам патриарх перед Литфондом хлопотал. Кстати, я с Владимиром Вигилянским вместе в Литературном институте учился. Парень был – хоть куда?
– И в батюшки подался?
– В университетском храме МГУ подвизается. Православную молодежь окормляет.
– А знаешь ты, что Владимира Солоухина, – не унимался я, – патриарх отпевал? Солоухин – первый русский писатель, кого отпел патриарх Алексий II. И вообще, первый человек, кого отпевали в храме Христа Спасителя.
– Ничего удивительного. Идея возрождения храма Христа Спасителя в Москве принадлежит Владимиру Солоухину. С этой идеей он лет двадцать, как я знаю, носился…
Но вот уже и магазин. Заходим. Ничего особенного. Обычный сельский магазин, так и хочется сказать «лавка». Правда, выбор продуктов довольно приличный: колбаса, консервы, водка, вино…
…А «дом Булата», как спустя месяц я узнал из программы «Время», отстояли. В писательском поселке еще одним музеем стало больше.
1998