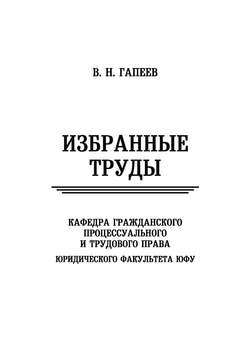Читать книгу Избранные труды - Валерий Гапеев - Страница 6
Раздел I. Автореферат, монографии
Правосудие и арбитраж
Очерк 1. Современное понимание сущности правосудия по гражданским делам
ОглавлениеВ 1977 г. государственный арбитраж получил конституционное закрепление, однако некоторые проблемы, связанные с его функционированием, не утратили актуальности: в их числе вопросы о сущности и месте арбитража в системе органов государства; о том, почему на суд не могут быть возложены функции, ныне реализуемые арбитражем; наконец, о содержании, которое мы вкладываем в формулу-принцип «правосудие по гражданским делам осуществляется только судом» – применим ли этот принцип к гражданскому судопроизводству?
Последний вопрос требует более развернутой характеристики, ибо многие неясности могут быть устранены, если мы точно сформулируем именно эту проблему, попытаемся дать ее объяснение и укажем путь выхода из некоторых сложных ситуаций.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик установили, что защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем или третейским судом и в некоторых случаях административными органами, а также товарищескими судами, профсоюзными и иными общественными организациями (ст. 6). Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые одновременно с Основами гражданского законодательства и уже подвергнутые новации в связи с принятием новой Конституции, подтвердили и неоднократно ранее провозглашенное положение о том, что правосудие по гражданским делам осуществляется только судом (ст. 7)[13]. Встает вопрос о том, в каком соотношении находятся эти две статьи, не противоречат ли они друг другу?
Действительно, ст. 7 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик в первой части указывает, что правосудие по уголовным делам осуществляется только судом, а далее – во второй части – раскрывается глубокий принципиальный смысл этой формулы: «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом». В этой формуле, пожалуй, наиболее важным является то, что она адресована и самому законодателю, обязывая его относить разрешение уголовных дел только к компетенции суда.
Следует обратить внимание на то, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство установили возможность рассмотрения в народном либо в товарищеском суде дел о некоторых правонарушениях, за которые закон предусматривает возможность применения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) уголовного наказания или общественного воздействия. Означает ли это, что в одних случаях дела об уголовных правонарушениях могут рассматривать государственные суды, а в других – товарищеские? Обстоятельно исследовавший данную проблему в последние годы Е. И. Филиппов пришел к убедительно аргументированному выводу о том, что товарищеские суды не рассматривают уголовные дела[14].
Есть ли основание утверждать, что только суд может осуществлять защиту гражданских прав способами, предусмотренными ст. 6 Основ гражданского законодательства. Такое заключение будет неверным, ибо защиту гражданских прав могут проводить и иные органы. Ясно при этом, что возникает настоятельная необходимость раскрыть содержание возведенного в ранг принципа положения о том, что правосудие по гражданским делам осуществляется только судом.
В правовой литературе длительное время не уделялось должного внимания указанному вопросу. Потому не вызывает сомнений правильность другого, более общего суждения С. Н. Братуся, А. С. Пиголкина, В. М. Сырых о том, что проблема судебной и внесудебной юрисдикции в их взаимоотношении является пробелом в исследовании правоприменительной деятельности[15]. Некоторые высказывания о содержании рассматриваемого принципа очень кратки и вряд ли могут быть признаны удовлетворительными и существенными. Авторы научно-практического комментария к Основам гражданского судопроизводства по поводу ст. 7 писали: «…никакие другие органы государства, кроме… государственных судебных органов… не вправе осуществлять правосудие по гражданским делам. Рассмотрение некоторых категорий гражданских дел органами государственного и ведомственного арбитража, товарищескими и третейскими судами, а также другими государственными и общественными организациями не является правосудием, ибо суд и только суд является единственным органом, который осуществляет правосудие»[16]. Это утверждение звучит категорично, но мало что объясняет.
Такие суждения важны как посылки для раскрытия понятия и общих правил судебной подведомственности, однако вряд ли они представляют собой принципиальную теоретическую ценность применительно к рассматриваемой проблеме. Нетрудно заметить, что из аналогичных рассуждений можно исходить при характеристике деятельности как арбитража, так и вообще любого иного государственного и общественного органа.
Сравнительно более подробно освещает эту проблему М. С. Шакарян, указывая, что отнесение законом некоторых гражданских дел к ведению органов арбитража и других государственных органов, товарищеских судов и иных общественных организаций, равно как и допущение третейского разбирательства гражданских дел, не колеблет принципа осуществления правосудия только судом. Правосудие осуществляется в строго определенном законом процессуальном порядке, характерном лишь для судопроизводства. Рассмотрение же гражданских дел перечисленными органами не облечено в строгую процессуальную форму[17].
Интенсивные исследования, проведенные в нашей стране в течение 70-х гг., казалось, давали основания считать достоянием истории науки вывод о том, что только суду свойственна процессуальная форма. Однако в 1979 г. М. С. Строгович вновь обращается к этому вопросу: «…при всех условиях необходимо твердо стоять на той точке зрения, что в принципе, в своей основе процессуальные нормы в точном и прямом значении этого понятия – это судебно-процессуальные нормы, это нормы судопроизводства…». И далее: «…мы высказываемся против введения в научный и практический обиход самого понятия «юридический процесс» и относим понятие процесса, процессуального права, процессуальной формы только к деятельности суда и связанных с ним органов»[18]. Однако нам представляется, что исследования В. М. Горшенева (теория права), В. Д. Сорокина (административный процесс), Т. Е. Абовой, И. Г. Побирченко (арбитражный процесс), Е. И. Филиппова (общественно-товарищеский процесс)[19] опровергают данный вывод.
Понимая слабость своей позиции в особенности при анализе деятельности арбитража, принципы организации и деятельности которого нашли конституционное и текущее законодательное закрепление[20], М. С. Строгович признает: «…нормы, определяющие порядок деятельности органов арбитража, права и обязанности спорящих сторон и т. д., в известной мере приближаются к процессуальным нормам»[21]. Когда в научной литературе встречаются выражения типа «в известной мере приближаются», то они свидетельствуют о том, что исследуемый вопрос далек от окончательного решения и уяснения смысла, в данном случае – тех норм, которые определяют порядок рассмотрения хозяйственных споров в арбитраже.
Анализируя основные проблемы арбитражного процесса в свете Закона о государственном арбитраже в СССР, А. А. Добровольский правильно писал о том, что деятельность суда и арбитража осуществляется в заранее установленной законом процессуальной форме, которая, с одной стороны, обеспечивает заинтересованным в исходе спора сторонам определенные правовые гарантии правильности разрешения спора, равенство процессуальных прав и процессуальных обязанностей, а с другой стороны, обязывает суд и арбитраж рассматривать и разрешать споры при строгом соблюдении норм процессуального и материального права[22].
Сущность правосудия не может быть сведена только к процессуальной форме, так как эта форма свойственна любой правоприменительной деятельности[23]. Правосудие включает в себя правоприменительный процесс, которым, однако, не исчерпывается его сущность. Эта черта правосудия позволяет отнести суд к числу правоприменительных органов, но не отличает один правоприменительный орган от другого. Определить же качественную природу юрисдикционных органов (суда, арбитража, товарищеских судов и т. д.) – значит выявить, в частности, отличительные признаки в каждой из процессуальных форм, перейти, по словам В. И. Ленина, «…от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка…»[24].
Изложенное не означает, однако, что в нашей литературе не находят своего отражения трудности, которые встречаются при истолковании формулы об осуществлении правосудия по гражданским делам только судом. Характерно, что больше всего попыток внести ясность в эту формулу делают те, кто изучает сущность деятельности арбитража, товарищеских судов и иных органов, в компетенцию которых входит защита гражданских прав. Это нельзя признать случайным. Ведь первой трудностью, которая встает перед исследователями упомянутых органов, является разрешение такого вопроса: если суд, осуществляющий защиту гражданских прав, одновременно осуществляет и правосудие, то каково же соотношение правосудия с деятельностью арбитража, товарищеских судов и иных органов, защищающих гражданские права? Исследователи по-разному пытались ответить на данный вопрос.
Первый из вариантов разрешения проблемы состоит в том, чтобы отрицать принципиальное значение формулировки об осуществлении правосудия по гражданским делам только судом (ст. 7 Основ гражданского судопроизводства) и использовать ее лишь для раскрытия понятия и общих правил судебной подведомственности. П. В. Логинов, рассматривая отличие арбитража от органов правосудия, приходит именно к такому выводу, утверждая, что «положение "правосудие осуществляется только судом" употребляется до некоторой степени условно в том смысле, что им охватывается значительная деятельность суда по рассмотрению споров»[25].
Вывод из этих рассуждений может быть только один: содержание ст. 7 Основ гражданского судопроизводства не соответствует действительности. Именно к такому выводу пришел О. В. Иванов. Он писал: «…принцип осуществления правосудия только судом применительно к гражданскому судопроизводству перестал быть принципом, он ничего не выражает кроме того, что суд (как и любой другой орган) рассматривает и разрешает гражданские дела, отнесенные законом к его компетенции»[26].
Второй возможный вариант решения вопроса состоит в том, чтобы признать полное совпадение юрисдикционной деятельности всех органов, осуществляющих защиту гражданских прав, с характером правосудия по гражданским делам. По такому пути пошли некоторые исследователи, анализировавшие деятельность товарищеских судов. По их мнению, эта деятельность является новой (общественной) формой социалистического правосудия[27]. Данная позиция была подвергнута довольно резкой и, на наш взгляд, справедливой критике[28]. Правы те, кто считает, что в настоящее время она противоречит Конституции СССР[29].
Тем не менее нельзя сказать, что взгляды сторонников существования общественного правосудия отошли в прошлое. Судя, например, по опыту работы общественных судов в европейских социалистических странах, по терминологии, которую употребляет законодатель, а также по взглядам некоторых зарубежных исследователей, идея общественного правосудия имеет сторонников[30].
С. В. Курылев, соотнося деятельность суда и арбитража, прямо писал, что формула «правосудие осуществляется только судом» лишается всякого смысла по отношению к гражданским делам, разрешение которых по закону отнесено к компетенции внесудебных органов. «Примирить» идею правосудия по гражданским делам с фактом существования арбитража, устранить «бессмыслицу» упомянутой формулы можно, по его мнению, только одним путем: трактовать арбитраж как хозяйственный суд, как орган, осуществляющий правосудие[31].
Пожалуй, наиболее полное и завершенное воплощение мысль о слиянии юрисдикционной деятельности и правосудия нашла у В. П. Нажимова. Он писал, что «правосудие как государственная деятельность по применению права (юрисдикция) включает в себя: а) правосудие в широком смысле, б) правосудие в собственном (узком) смысле»[32]. При таком подходе, разумеется, всякие трудности с истолкованием понятия правосудия по гражданским делам исчезают. Но устранение этих трудностей достигнуто с помощью искусственного приема: отождествления понятий «юрисдикция» и «правосудие».
Третий путь может состоять в том, чтобы признать деятельность арбитража, товарищеских судов и иных органов, осуществляющих защиту гражданских прав, временным исключением из общего правила о том, что правосудие по гражданским делам осуществляется только судом. В этом случае можно было бы указать, что деятельность этих органов обусловлена только обстоятельствами исторического момента и в будущем будет иметь тенденцию к трансформации в судебные органы. Так, хотя сейчас уже мало кто утверждает, что арбитраж по своей природе в настоящем его виде является судом, тем не менее при разработке правовых проблем экономической реформы 1965 г. были высказаны прогнозы, что арбитраж в будущем должен трансформироваться в «хозяйственный суд»[33]. Казалось бы, эти прогнозы не оправдались в свете положений Конституции 1977 г., однако В. П. Нажимов продолжает утверждать, что «…деятельность арбитража все больше становится как бы разновидностью судебной деятельности»[34].
В связи с обсуждаемым вопросом чрезвычайно важное значение имеет тот факт, что согласно Закону о судах Венгерской Народной Республики все дела по хозяйственным спорам, рассматривавшиеся до 1 января 1973 г. государственными арбитражами, переданы в ведение судебных органов, а существовавшие ранее территориальные арбитражные комиссии по разрешению трудовых конфликтов преобразованы в специальные (трудовые) суды. Комментируя данное обстоятельство, А. А. Добровольский и Л. Неваи писали, что принцип отправления правосудия только судами проведен в процессуальном законодательстве ВНР весьма последовательно[35].
Как отмечалось выше, в литературе не уделяется должного внимания соотношению правосудия с иными формами защиты гражданских прав, тем не менее необходимо сделать весьма важную оговорку о том, что в теории советского гражданского процессуального права этот вопрос нашел своеобразное преломление. Имеется в виду та острая полемика, которая развернулась вокруг новой концепции предмета гражданского процессуального права, выдвинутой Н. Б. Зейдером. По его мнению, предметом гражданского процессуального права должна быть деятельность всех органов, указанных в ст. 6 Основ гражданского законодательства, по защите гражданских прав[36].
В последние годы наиболее пространную аргументацию в пользу принадлежности арбитражного процесса к гражданскому процессу высказывал И. М. Зайцев. Он полагает, что нормы, регулирующие арбитражное производство по рассмотрению хозяйственных споров, не образуют автономной отрасли права, а входят в состав гражданского процессуального права в качестве его подотрасли. В основе такого вывода лежат утверждения о принципиальном единстве основных начал деятельности арбитража и суда, о сходстве его основных институтов[37].
Хотя Н. Б. Зейдер и его сторонники не предлагали считать всю юрисдикционную деятельность правосудием, выдвигаемая ими концепция тесно связана с вопросом о соотношении правосудия с иными формами защиты гражданских прав и по своему существу данная теория представляет попытку решения этого вопроса.
Направленность поиска определяется стремлением унифицировать порядок деятельности органов, осуществляющих защиту гражданских прав. Унификация эта может быть устремлена только в сторону сближения внесудебных процессуальных форм защиты с судебной как наиболее универсальной. Выразится эта унификация в том, что должны быть выработаны общие понятия, метод и задачи советского гражданского процессуального права, должна быть создана единая теория гражданских процессуальных правоотношений. Но возможно ли создать такую стройную теорию советского гражданского процессуального права в предлагаемой интерпретации его предмета, не подвергая одновременно существенным изменениям деятельность арбитража, товарищеского суда и т. д.? Полагаем, что нельзя. В самом деле, как можно, например, создать единую теорию гражданских процессуальных отношений применительно к деятельности, например, товарищеского суда и арбитража или профкома и суда в том виде, в котором эти органы существуют сейчас? Очевидно, такой вопрос может прозвучать только риторически.
Так, поддерживая идею о расширении предмета советского гражданского процессуального права, В. Н. Щеглов явно непоследовательно исследует гражданское процессуальное правоотношение лишь применительно к судопроизводству[38]. Такая непоследовательность красноречиво свидетельствует о невозможности создать единую конструкцию процессуальных правоотношений в рамках новой концепции гражданского процессуального права. Аналогичный упрек можно было бы сделать и И. А. Жеруолису. Указав во введении к монографии «Сущность советского гражданского процесса», что его необходимо рассматривать как деятельность всех органов, которые разрешают споры о праве в исковой форме, он одновременно интерпретирует сущность этого процесса в традиционном его понимании, т. е. как советский гражданский судебный процесс[39]. Прав был М. А. Гурвич, когда он, анализируя попытку включить в общее понятие гражданского процесса не только судопроизводство по гражданским делам, но и другие виды деятельности по рассмотрению гражданских дел, указывал, что идея эта основывается на соображении о единстве содержания правосудия по гражданским делам[40].
Действительно, если будет доказано, что товарищеский суд осуществляет правосудие, что арбитраж должен превратиться в хозяйственный суд, то правильность предложения о включении процессуальной деятельности этих органов в гражданский процесс не вызывает сомнений. Но вся сложность состоит именно в том, что сначала надо доказать это. В настоящее время такие доказательства отсутствуют, и при этом главным, пожалуй, остается вопрос о сущности правосудия по гражданским делам. Справедливо отметил Герхард Ханай, что до сих пор, когда речь заходит о праве, часто думают, прежде всего, о праве уголовном, когда говорят о правосудии, часто имеют в виду почти исключительно уголовное правосудие[41]. А без уяснения сущности правосудия по гражданским делам, естественно, не может быть достаточно полного анализа правосудия как особым образом организованной деятельности специальных органов государства[42].
Обобщая изложенное, наметим основные пути исследования проблемы.
В связи с тем, что арбитраж получил конституционное закрепление, особо актуальным стал вопрос о соотношении и взаимодействии арбитражной деятельности с деятельностью суда. По-видимому, главным при рассмотрении этой проблемы будет выяснение политического и юридического смыслов, которые вкладываются в формулу-принцип: «правосудие в СССР осуществляется только судом» (ст. 151 Конституции СССР).
Поскольку защита гражданских прав осуществляется и во внесудебном порядке, достаточно сложным является исследование упомянутой формулы применительно именно к гражданскому судопроизводству. Имеющиеся в литературе попытки выйти из создавшейся сложной в теоретическом и практическом отношении ситуации нельзя признать успешными, прежде всего потому, что попытки эти основаны на прямо высказываемом (или молчаливо предполагаемом) постулате о реализации конституционного принципа осуществления правосудия в СССР только судом лишь применительно к уголовным делам.
В следующих очерках представлены не только попытки вскрыть смысл упомянутого принципа применительно к гражданским делам, но и обратить внимание на некоторые несовершенства законодательного материала, представляющего отступления от данного положения. Исследование этого принципа ведется в плане сравнительного анализа деятельности суда и арбитража. При этом имеется в виду, что а) из всех существующих в стран юрисдикции только арбитражная (наряду судебной) получила непосредственное конституционное закрепление; б) именно между судебной и арбитражной юрисдикциями, как будет показано, явно ослаблены организационные и процессуальные контакты, и это приводит или может привести к нежелательным последствиям в деле укрепления правопорядка в стране.
Целенаправленное использование сравнительного метода в изучении суда и арбитража основывается на имеющемся сходстве и различии между этими органами. Сходство предопределено тем, что нормы о суде и арбитраже помещены в одной главе Конституции. Но не менее существенны и различия. Главное заключается в том, что законодатель вывел разрешение хозяйственных споров из круга функций правосудия. Использование сравнительного метода поможет лучшему уяснению причин параллельного существования суда и арбитража, а также позволит взглянуть на сопоставляемые органы под более широким углом зрения.
13
См.: О внесении изменений и дополнений в законодательство Союза ССР о гражданском судопроизводстве. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 окт. 1979 г. – Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, № 42, ст. 697. Здесь и далее содержание статей нормативного материала дается в их новейшей редакции.
14
См.: Филиппов Е. И. Общественно-товарищеское судопроизводство в СССР. Ростов н/Д, 1979, с. 100–112. См. также изменения, внесенные в Положение о товарищеских судах Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 дек. 1982 г. – Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, № 49, ст. 1822.
15
См.: Проблемы совершенствования советского законодательства. – Труды ВНИИСЗ. М., 1975, вып. 4, с. 28.
16
Научно-практический комментарий к Основам гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. М., 1962, с. 32.
17
См.: Шакарян М. С. Комментарий к главе 1 ГПК РСФСР. – В кн.: Комментарий к ГПК РСФСР. М., 1976, с. 12.
18
Строгович М. С. Природа уголовно-процессуального закона и его характерные черты. – В кн.: Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М., 1979, с. 41, 43.
19
См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972; Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. М., 1972; Абова Т. Е. Хозяйственный процесс – порядок защиты хозяйственных прав. – В кн.: Теоретические проблемы хозяйственного права. М., 1975; Побирченко И. Г. Хозяйственная юрисдикция. Киев, 1973; Филиппов Е. И. Указ. соч.
20
См.: Закон о государственном арбитраже в СССР от 30 нояб. 1979 г. – Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, № 49, ст. 844.
21
Строгович М. С. Природа уголовно-процессуального закона…, с. 41.
22
См.: Добровольский А. А. Основные проблемы арбитражного процесса в свете Закона «О государственном арбитраже в СССР». – В кн.: Повышение роли государственного арбитража в механизме социалистического хозяйствования. М., 1981, с. 73.
23
См.: Горшенев В. М., Дюрягин И. Я. Правоприменительная деятельность. – Сов. государство и право, 1969, № 5, с. 21–28.
24
Ленин В. И. Философские тетради. – Полн. собр. соч., т. 29, с. 227.
25
Логинов П. В. Сущность государственного арбитража. М., 1968, с. 38.
26
Иванов О. В. К вопросу о конституционных основах гражданского судопроизводства. – Труды Иркутского ун-та, т. 81. Серия юридическая, вып. 12, ч. 2. Иркутск, 1971, с. 191–192.
27
См., например: Пучинский В. К. Об усилении роли общественности в разрешении гражданско-правовых споров. – Ученые записки ВИЮН. М., 1961, вып. 11, с. 108.
28
См., например: Добровольская Т. Н. Понятие советского социалистического правосудия. – Ученые записки ВИЮН. М., 1963, вып. 16, с. 5–13; Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968, с. 63–64; Комиссаров К. И. Теоретические основы судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства: Автореф. дис… докт. юр. наук. Свердловск, 1971, с. 7–9.
29
См.: Добровольская Т. Н. Конституционные основы правосудия. – В кн.: Органы Советского общенародного государства. М., 1979, с. 281–282.
30
См., например: Общественные суды в европейских социалистических странах. М., 1968, с. 33, 48, 79, 86 и др.; Апарова Т. Е., Лубенский А. И. Правосудие и прокурорский надзор в Конституциях зарубежных социалистических государств Европы. – Сов. государство и право, 1976, № 1, с. 90; Германская Демократическая Республика. Конституция и законодательные акты. М., 19:79, с. 51, 246–247.
31
См.: Курылев С. В. Экономическая реформа и формы разрешения хозяйственных споров. – В кн.: Научно-методические вопросы преподавания экономических дисциплин в вузах. Минск, 1969, с. 309–310.
32
Нажимов В. П. Понятие и виды правосудия. – В кн.: Вопросы современного развития советской юридической науки. Научная конференция, посвященная 50-летию Советского государства и права. Л., 1968, с. 114.
33
См., например: Братусь С. Н. Советское гражданское право и социалистическая законность. – Соц. законность, 1967, № 11, с. 62.
34
Нажимов В. П. К вопросу о понятии и содержании правосудия в свете Конституции СССР. – В кн.: Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. М., 1979, с. 130.
35
См.: Добровольский А., Неваи Л. Задачи социалистического правосудия и основные принципы гражданского процесса в социалистических странах. – В кн.: Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. М., 1977, ч. 1, с. 22.
36
См.: Зейдер Н. Б. Предмет и система советского гражданского процессуального права. – Правоведение, 1962, № 3, с. 69–82.
37
См.: Зайцев И. М. Хозяйственный спор и арбитражный процесс (вопросы теории). Саратов, 1982, с. 64–71.
38
См.: Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М., 1966, с. 148–149.
39
См.: Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969, с. 6.
40
См: Гурвич М. А. Некоторые итоги развития гражданского процессуального права по новому гражданскому и гражданско-процессуальному законодательству. – В кн.: Сборник тезисов преподавателей ВЮЗИ. М., 1968, с. 31–32.
41
См.: Ханай Герхард. Социалистическое право и личность. М., 1971, с. 186.
42
См.: Елисейкин П. Ф. Проблемы советского гражданского процессуального права в свете решений XXV съезда КПСС. – В кн.: Защита субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, вып. 2, с. 12.