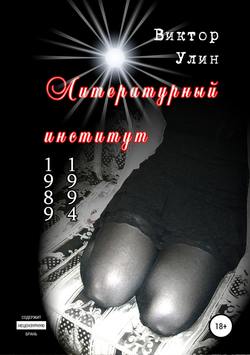Читать книгу Литературный институт - Виктор Улин - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Девушка с печи №7
4
ОглавлениеЯ жалел, что не было с нами Коли Баврина.
Тоже прозаика и тоже с нашего семинара и тоже выходца из Ленинграда.
Человека в высшей степени интересного, таящего недюжинный ум и невероятную проницательность под обманчиво безразличной манерой поведения.
И кроме того, обладавшего на мой взгляд, просто-таки эталонным художественным вкусом, что для меня делало любое его замечание первозначимым. К тому же мнению постепенно склонялись и другие.
Еще в институтские времена он уже работал в каком-то издательстве и с невероятными усилиями (хоть и безуспешно) пытался пристроить моего «Зайчика».
Именно с ним (разумеется, при помощи нашего семинарского руководителя, дочь которого работала в редакции) мы публиковались в разделе «Новые имена» 12-го номера журнала «Октябрь» на 1991 год. Коля с рассказом «Солнце для Небыкова» на странице 153-й, я со своими «Тремястами годами» – на 157-й…
В журнале Коля был Бавриным.
Но его отец – человек в высшей степени оригинальный и любящий нетрадиционные решения! – ушел из семьи, а своего сына во втором браке назвал Николаем.
Когда мой сокурсник поднялся на определенный уровень, ему пришло в голову, что двух Николаев Бавриных многовато и взял творческий псевдоним.
И – я полагаю, намеренно, поскольку был тонким ироничным человеком, способным рассчитать воздействие Слова – Коля не стал ничего придумывать, а убрал из своей настоящей фамилии третью букву.
Эта изящный ход породил на нашем семинаре лавину почти анекдотических ситуаций, как-то…
Руководителя нашего семинара, вставшего во весь немалый рост над своим столом и вопрошавшего:
– Ну, а что на все это скажет барин?..
Или нечто почти Гоголевское, звучащее в рассказе Сенькова о семинаре, который я пропустил в силу форс-мажорных обстоятельств:
– Обсуждали 25-ю часть Бухалкинской «Армии» – такая же херня, как и предыдущие 24… Каждый сказал по два слова, хвалил, никто не критиковал, даже Меркулов утух, всем все надоело. А потом встал барин и сказал – «А не пойти бы вам все на …»
И наконец, уже просто-таки бриллиантового диалога, для понимания которого требуются некоторые пояснения.
Наше образование было почти классическим и в то же время очень своеобразным.
Мы имели предметы стандартные для любой филологической специальности, но важнейшими считались творческие семинары. Своего рода студии, где мы постигали мастерство на основе собственных текстов и под влиянием руководителя – коим у меня был Олег Павлович Смирнов, автор сценария второй части сериала «Государственная граница».
Общие предметы были общими для всех, на семинары каждый руководитель сам отбирал учеников еще по результатам творческого конкурса (отбора по изначальному уровню литературного таланта, который служил первой ступенью перед обычными вступительными экзаменами).
На весенних семинарах мы обсуждали свои произведения – написанные на тему, заданную осенью, и присылаемые руководителю накануне сессии. Темы были лаконичными и оставляли простор фантазиям.
(Слегка отвлекаясь, скажу, что первая наша тема звучала как «Женщина».
Выбор ее без комментариев говорит о том, что именно волновало всех нас в те годы. Как не может волновать художника эта не просто главная, а по сути единственная достойная тема. Сам я – за редкими исключениями, которые составляют лишь Exceptio confirmat regulam – всю жизнь писал, пишу и буду писать только с мыслью о прекрасной половине человечества.
Первая тема оказалась для меня толчком в нужном направлении. Задумавшись о женщине, я в один присест написал повесть «Зайчик». Совершил своего рода эксперимент, создав исповедь женщины, написанную от первого лица и с такими женскими подробностями, что иные читатели до сих пор считают меня кем-то вроде современного «Жоржа» Санд.
Повесть был отвергнута руководителем из-за несоответствия форме; мне пришлось срочно написать рассказ «Ваше величество женщина» – который при всей своей простоте тоже оказался программным.
На семинаре этого «Зайчика» разнесли в прах, меня аттестовали порнографом (хотя я не писал порнографии, а лишь создал страшную в своей правдивости историю неопытной девушки), финал повести ругали «индийским» (хотя я лишь дарил надежду, предварительно окунув читателя в кипящий лед катарсиса), и так далее. Но тем не менее эту повесть читали не только всем курсом и всем институтом; ею баловались даже преподаватели!
«Зайчик» стал моей визитной карточкой; впоследствии мне удалось дважды продать его на экранизацию и издать в АСТ/ЗебраЕ…
Но это уже выходит за рамки темы, я возвращаюсь к Коле Баврину.)
Мне было учиться интересно и потому я не игнорировал ни одного предмета общего курса. Добрая половина моих товарищей посещала только творческие семинары.
Это было допустимо; посещаемости никто не проверял, а сдать экзамены и зачеты не составляло труда. Сам я, не имев возможности отлучаться в Москву дважды в год на четыре недели, сдавал обе сессии весной и до 5 курса был круглым отличником.
Ленинградцы, не ограниченные дистанциями огромного размера, предпочитали приезжать раз в неделю на семинар, а не жить в помойке на улице Грибоедова.
Уезжали в Питер – так традиционно именовался между собой великий город на Неве.
(В молодости и я звал его «Петербургом» – лишь после обратного переименования, ощущая себя во фронде к любым переменам, стал говорить только «Ленинград».)
При этом стоить помнить, что в те времена не только не было электронных гаджетов, но даже матричный принтер был чем-то запредельным. Тексты творческих заданий представлялись отпечатанными на машинке, в нескольких (слепнущих от копии к копии) экземплярах. Количество их всегда оказывалось недостаточным для беспроблемного чтения перед семинаром.
И потому часто звучало нечто Некрасовское в разговоре двух со-семинаристов:
– Во вторник Улдиса обсуждать, не могу найти текстов. У тебя вроде есть?
– Уже нет. Барин взял рассказы – и уехал в Питер…
И, возможно не случайно, что не кем-то другим, а именно с Колей после защиты мы напились до положения риз.
Я – с досады от того, что мой безупречный дипломный сборник на женскую тему, озаглавленный как «Мельничный омут» по названию одного из рассказов, не получил адекватной оценки.
Барин – из солидарности со мной.
* * *
Не помню, почему тогда не пришел слушать песни светлой памяти Витя Белый.
Прозаик с Орловского семинара.
Бывший штурман аэрофотосъемки, настоящий дельтапланерист, будущий бизнесмен и владелец собственного самолета.
Один из горстки известных мне по жизни тёзок.
(Первым из которых был мой отец – врач, хирург-амбидекстр Виктор Никитович, трагически погибший на четвертый день после моего рождения.
Вторым – младший двоюродный брат Виктор Олегович (тоже названный в его память) – ныне ленинградец и без пяти минут генерал-майор инженерных войск…)
Витя Белый был невыразимо близок мне по своей сущности.
Ведь я должен был быть летчиком и не смог стать им только из-за плохого зрения, доставшегося по наследству.
Небо и самолеты играют важную роль в сюжетах лучших моих произведений.
Рассказов:
– «Девушка по имени Ануир»,
– «Евдокия»,
– «Запасной аэродром».
Повестей:
– «9-й цех»,
– «Вальс-бостон»,
– «НАИРИ»,
– «Танара».
Романов:
– «Der Kamerad»,
– «Высота круга».
И уже в наши дни, при очевидном закате своей полностью неудавшейся жизни в стихотворении «Юрию Иосифовичу Визбору» я обращался к боготворимому человеку словами:
– Я б команду давал про винты на упор.
И штурвал на себя брал бы вовремя, кстати.
И летали бы мы – то к плато Расвумчорр,
То в Новлянки-село, то на остров Путятин…
И в то – уже не кажущееся реальностью – время, когда я был человеком, имел автомобили и радовался каждой минуте бытия, я ездил именно, как летал, разве что не мог взять на себя руль…
Поэтому, видя в Вите человека, живущего одной своей половинкой в небе, я звал его «Штурманом».
Витю никогда не забуду хотя бы за то, что он поведал свою историю, открывающую реальную суть одной заштампованной до неразличимости ситуации.
Однажды Штурман стартовал с горы на одолженном у кого-то дельтаплане, (свой оказался не в порядке). На порядочной высоте у чужой машины подломился дюралюминиевый подкос и она стала складываться.
– И ты знаешь, Тёзка… – рассказывал Витя с непонятной усмешкой. – Принято считать, что в такие минуты человек вспоминает березку у ворот или руки матери, или глаза первой любви – или пишут какую-нибудь хероту типа того, что перед ним пронеслась вся его жизнь и так далее… Так вот – все это херота и есть.
Он поглядел мне в глаза и усмешка сделалась грустной.
– Была у меня только одна мысль: …
И произнес нецензурное существительное из шести букв, образованное от нецензурного же наименования женского полового органа.
В тот раз – уже не помню, каким образом – мой друг гибели избежал.
Но лицо его, обычное лицо молодого человека, временами озарялось выражением – которого он, возможно, и не замечал – казавшимся мне неким знаком обреченности.
Увы, я не ошибся.
Штурман ушел в последний полет в начале нынешнего века – без времени и неожиданно, будучи младше меня лет на десять.
Узнав о том, я Вите посочувствовал (если таким словом можно описать горечь от известия о смерти товарища прежних лет); сейчас я ему завидую.
* * *
Почему-то не пришел в тот вечер Володя Дорошев.
Прозаик с того же семинара, что и Белый.
Крепыш в невероятно густыми, стоящими надо лбом волосами.
Человек глубоко одаренный, обладавший великолепным, звучным, мощным, глубоким баритоном.
Певец, рядом с которым я выглядел как писклявый мальчик из церковного хора.
Не игравший на гитаре, исполнявший a capella.
Стоило Володе принять позу и запеть:
– У вашего крыльца
Не вздрогнет колокольчик,
Не спутает следов мой торопливый шаг…
Вы первый миг конца
Понять мне не позвольте,
Судьбу напрасных слов не торопясь решать!
– как из полуподвальной душевой выбегали обнаженные женщины всех возрастов.
И оставляя мокрые следы, отталкивая друг дружку, бежали вверх по лестнице на наш третий «заочный» этаж, не дожидаясь лифта.
В обычном состоянии спокойный и не говоривший слова не подумавши, подвыпивший Володя делался неукротимым, как маркиза, хоть и в ином смысле.
Однажды, остановленный по какой-то причине милицейским патрулем, он в несколько ударов обездвижил стражей порядка и успел скрыться прежде, чем те очнулись.
* * *
И, конечно, не хватало мне Юры Ломовцева.
Драматурга и прозаика (окончившего сразу два творческих семинара), глубоко эрудированного и начитанного, знавшего литературу от Лонга до Венедикта Ерофеева.
Человека, чей образ всплывает перед глазами, стоит мне лишь мысленно произнести слово «петербуржец».
Интеллигента в неизвестно каком поколении.
Юра писал пьесы на разные темы, от исторических до современных.
С первого взгляда Ломовцев мог показаться высокомерным; он никогда не открывался в первом разговоре, а на губах его всегда блуждала отстраненная усмешка. Но стоило сойтись поближе, как становилось ясным, что он не высокомерен, а просто скрытен.
И усмешка его в самом деле грустная, какая должна быть у человека неисчерпаемого – вглубь, как атом, вширь, как Вселенная – и знающего такие печальные истины, о каких собеседник еще не задумывался.
Юра был многогранен.
Каждый день он появлялся в новом обличье.
Вчера я видел его изящным и утонченным, словно Олег Табаков в роли группенфюрера Вальтера Шелленберга из «17-ти мгновений весны».
Сегодня он шел навстречу с красными глазами, всклокоченный, раздрызганный и расхристанный, как мятежный протопоп.
(Этот мятежный Аввакум – образ, пущенный в наш обиход самим Юрой! – был тогда близким и понятным; сегодня вряд ли каждый читатель поймет, о ком я говорю, но информация доступна всякому.)
И никогда не мог предположить, каким увижу Юру завтра.
Много позже, приезжая в Санкт-Петербург, я вел долгие разговоры с Юрой по телефону – и всякий раз ощущал себя так, будто вновь напился из источника, который казался иссякающим.
А работал мой бывший сокурсник оператором в котельной.
И я понимал, что никогда не будет ничего хорошего в стране, где потенциал таких личностей, как Юра Ломовцев, используется с эффективностью системного блока, на котором правят молотком старые гвозди.
* * *
Но в тот момент о грустном еще не думалось.