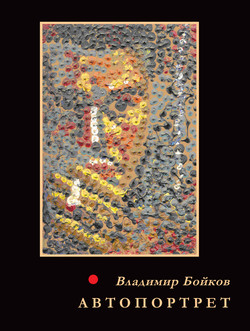Читать книгу Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011 - Владимир Бойков - Страница 10
Странствования
1958–1966
Перипатетика
ОглавлениеВеселая осень
Поветрий осенних
веселое дело!
Листва на осинах
совсем обалдела,
и солнце в листве
как бенгальский огонь,
и знак на шоссе
запрещает обгон.
А я тороплюсь
обогнать свои мысли,
а я не боюсь
уподобиться рыси,
чтобы, в чащобе
таежной играя,
рычать и визжать,
бытие выражая!
По осени пестрой
скорей за шоссе —
на сказочный остров
в лесной полосе.
На рыжую хвою
упав, отосплюсь
и, может, усвою,
зачем тороплюсь:
консилиум сосен
пусть оглядит
и вынесет осень
веселый вердикт!
Рабочее утро
Зимний рассвет —
это свет
недоспелый,
хрусткий и белый.
Это обочин огромность
в сугробах
и озабоченность
машин снегоуборочных.
Это деревьев нескромность
в морозных оборочках
там, за фигурами в робах,
в пальто на ватине
и в шубах.
Это яблок бесшумных
подобием – иней,
выдыхаемый густо.
Это воздух, набухший до хруста.
Это я в эту облачность долю
вношу:
и дышу,
и глаголю!
«Любите осень…»
Любите осень.
Дождь любите.
Со страстной грустью он асфальт
исцеловав, со всех событий
смывает суетность и фальшь.
Предметы, принципы, природа
и откровенней, и общей,
и отраженья колобродят,
отторженные от вещей.
Любите дождь.
Дожди – поэты,
слепцы, снотворцы, плясуны,
их песни петы-перепеты,
а все кому-нибудь нужны.
Точность
Я в средоточье медленных событий,
где распускание бутонов нарочитей,
чем время зримое в тех пузырьках с песком, —
по мигу лепесток за лепестком
и за цветком цветок, другой и третий, —
томительно рождение соцветий.
Что деется с той женщиной цветущей:
едва забылась над водой текущей,
лицом и грудью к ней устремлена,
как струями витая быстрина
остановилась, – тут же ненароком
та женщина летит к ее истокам.
Не для моих и жадности, и лени
такие тонкости в несчетности явлений,
вниманию доступных в каждый миг,
поэтому вперед и напрямик
я корочу подробностей цепочки
и говорю:
– Весна. Взорвались почки.
«Кого хоронят…»
Кого хоронят?
Человека?..
Труп!
Над ним глаза сопливенькие трут.
Умру и я какой-нибудь весной,
и станет трупом то, что было мной.
Исчезну я – все станет не моим.
И труп, и имя – просто псевдоним
покойника со смертного одра,
чья до могилы бытность и игра.
А гроб с покойником там с плеч долой:
ему домой и остальным домой,
и незаметно с каждым в его дом
вкрадусь и я – запамятный фантом.
«Набраться силы в роще б —…»
Набраться силы в роще б —
там корень или ветвь,
живущие наощупь,
меня сильнее ведь,
безмысленной (не глупой)
там жизни кутерьма.
Моя ж любовь к безлюбой —
беспомощность сама.
Меж холодом и светом
мембрана деревца
в неведенье продета,
а я же без конца
и сердцем беспокоен,
и совестностью слаб.
В соведенье такое
трава не забрела б:
ей на земле хватает
соседства – и чужда
взаимность чувств пустая,
в которой мне нужда.
Спешу до наступленья
потемок в угол свой
к отваге осмысленья
повинности живой.
«Еще в томлении блаженном…»
Еще в томлении блаженном
светло раскинулась река,
и над своим изображеньем
остановились облака.
В них обещанье грозной драмы
и барабанного дождя,
но дремлют лиственные храмы,
берез колонны возведя.
И тем из рощи – на прибрежье
крутом – не насторожен взгляд,
как свет сквозь влажный воздух брезжит
на эту тишь, на эту гладь.
И к шумно вдруг вскипевшим кронам
глаза невольно вознеслись:
играет дождь в плену зеленом —
с листа на лист, с листа на лист!
И ты, гармонии искатель,
из плеска музыку творя,
не замечаешь, что из капель
играющих одна – твоя…
одна – твоя…
«Пронзила существо мое тоска…»
Пронзила существо мое тоска:
живое чувство носят в сердце люди,
в себе и я, как в потаенном чуде,
и тайна несказанна, хоть близка.
Имея ту же самую природу,
пронзила существо мое тоска,
неистово клокочет у виска,
и рвется на смертельную свободу.
Пронзила существо мое тоска,
которую не выведать бумаге, —
как безысходный родничок в овраге,
пульсирует в душе моей строка.
«А день был рыж…»
А день был рыж.
Кружило солнце промеж крыш
лисой, играющей хвостом.
Подумаю – зажмурюсь:
день был хорош!
«Весенние кроны…»
Весенние кроны
еще лишь на днях
висели зеленым
дождем на ветвях.
Я знаю два самых
чарующих дома:
там сумерек запах,
здесь воздух черемух,
там зритель я завтра,
здесь нынче актер, —
кулисы театра
и леса шатер!
В излюбленном блещет
вода эпизоде,
листва рукоплещет
прекрасной погоде,
и я с той галеркой
согласно томим
негромкою ролькой —
собою самим.
«Миг печали казался почти беспредельным…»
Миг печали казался почти беспредельным,
сладко пели сирены в теченье метельном,
я поддался тому исступленному мигу —
за метелью пустился читать ее книгу,
с шелестящим томленьем струится, струится
по дороге Борея страниц вереница.
Истекают печали, и метели стихают,
будто слезы на чистых листах высыхают,
и следа не найдешь от былого кипения.
И не читана книга, и не слушано пение.
Пришествие
И снова возвращается гулена,
когда краснеют ветви оголенно
в березовом лесу и ветер влажный
гоняет по асфальту клок бумажный.
Во всякий час – едва за город выйдешь —
одну ее хлопочущую видишь,
когда в руках, подобных смуглым соснам,
белье снегов полощется под солнцем,
чтоб на ветру повиснуть для просушки, —
и облачные пухлые подушки
на синие ложатся покрывала.
Как будто слишком долго изнывала
по мужней ласке, по судьбе домашней,
по выстланной половиками пашне —
и вот вернулась к хлопотам гулена!
И думаешь о том ошеломленно:
она – пора души или погода?!
И не заметишь вновь ее ухода…
У костра
Избылось пламя – только в сучьях
шныряет мышь огней ползучих.
Мы с непонятной смотрим болью
на негодящие уголья,
и наши мысли не о ближних,
но близкое в них есть одно,
что каждый в сущности окно
на грани жизни и нежизни.
Задумываюсь, озарен
такой же мыслью: с двух сторон
глядят в огонь и из огня
какие силы сквозь меня?..
Провожая
З. Лившицу
Судьба разводит, как свела.
В грядущем – тьма.
А ночь, как никогда, светла —
сойти с ума!
Пусть слезы просятся к лицу —
нам не к лицу!
Мы в человеческом лесу,
как на плацу.
Все так же мне верней зеркал
твои глаза,
а то, что рвется с языка, —
замнет вокзал.
Разлука страшная беда,
но горший страх —
вдруг стать чужими навсегда
в двух, трех шагах!
Слетит с руки руки тепло,
как ни держи.
Да будет памяти светло
всю ночь, всю жизнь…
«Изволит августейший август…»
Изволит августейший август
подзолотить густейших трав вкус
и, мед даруя, повторять:
– Я не намерен умирать!
И ливень лихо накренится
и станет, рухнув на грибницы,
громовым рокотом играть:
– Я не намерен умирать!
Усталый день, клонясь к закату,
даст разгадать свою загадку —
несчетна ликов его рать:
– Я не намерен умирать!
Весь в зернах звезд вселенский купол,
давно бы черт все это схрупал,
да не дано к рукам прибрать:
– Я не намерен умирать!
Не слишком я в себе уверен,
по крайней мере я намерен
хотя бы мигу подыграть:
– Я не намерен умирать!
Деревенская ночь
Тропа в туманные пещеры.
и чистый месяц высоко.
Здесь рай бессмертного Кащея:
бурьян, крапива, частокол.
Туман прикрыл ручей и крыши,
и звездам в нем не утонуть,
лишь искры их слегка колышет,
когда приходится вздохнуть.
Пасутся лошади на склоне,
роняя колокольцев звон.
В моей пустейшей из бессонниц
счастливый воплотился сон.
«От жизни и любви счастливой…»
Проснулся и не мог понять: снилось ли
Чжоу, что он – бабочка, или бабочке
снится, что она – Чжоу"
(Чжуанцзы)
От жизни и любви счастливой
безумцем стал я в сновиденьях:
цветущие исчезли сливы
в пустых смятениях осенних.
Похоже, и тому безумью
сны полагались протоколом,
где от садов, шумящих шумью,
хватало счастья мне и пчелам.
Еще не отошел от сна и
увидел снова в сон я двери…
Теперь, наверное, не знаю,
в которой пребываю сфере.
«Уже душа отчаянным…»
Уже душа отчаянным
продута сквозняком,
и неотступным таяньем
набух сердечный ком,
и долго не уменьшиться
ему и все болеть —
еще не меньше месяца
снегам в логах белеть,
и кажется, не так ли мне
судьба прервет полет,
как вспыхивает каплями
под стоком стылый лед!
«Сквозь изгородь и садик…»
Сквозь изгородь и садик,
сквозь дом проходит путь,
которым скачет всадник
и не дает уснуть.
Не ты ли в самой гуще
безудержной езды?
Дороге той бегущей
неведомы бразды.
Не зная мыслей задних,
вперед, всегда вперед
и рядом скачет всадник,
вращая звездный свод.
Под теми ж небесами
часы стучат «цок-цок!»,
и всадник тот же самый —
в подушке твой висок!
Новосибирск. 1962–1966
Целиноград. 1965
Новолушниково. 1966