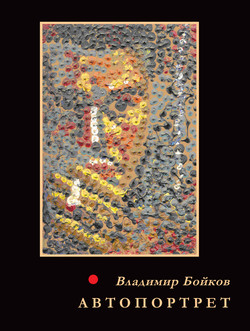Читать книгу Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011 - Владимир Бойков - Страница 7
Странствования
1958–1966
Сказки
ОглавлениеКолдовство
О, зори озерьи —
рыбьи отплески!
А во лазори
глыбы-облаки.
Око опрокинь
на берегинь:
ой, озоровать —
во озеро звать!
К берегу греби,
бери грибы.
Росу вороши,
грозу ворожи.
Дождаться дождецу,
политься по лицу —
заберется бусым
к березам босым.
Просьба вымолвлена —
проса ль вымолено?
На озерную гладь
летят зерна, глядь!
То ж скупой
дождь слепой.
Солнце вьется,
лучится, как луковица!
Тсс!..
Зовется,
кричится, аукается…
Напрягают пичуги
связки,
и сбегают испуги
в сказки!
Комната
Я заболел, и мир весь
свернулся в комнату:
в шкафу вздыхали вещи,
на полотенце пела птица,
и свесил уши телефон.
Здесь всех времен хватало:
два фикуса хранили лето,
ковер, как осень, был цветист,
зима ж царила всюду —
среди побелки стен
сугроб моей постели,
лед зеркала и в нем
мир вмерзших отражений.
Окна прямоугольник
являл мне то весну,
то ночь кромешную.
Но мне – зачем, не знаю —
не доставало звезд.
Таинство
Т. Янушевич
Огонь плясал свой ритуальный танец
на красных сучьях, красные березы
вокруг, и двое краснолицых молча
глядели друг на друга сквозь огонь.
На косогоре танцевало пламя,
и воздымала осень свой огонь,
и двое тех, что высоко безмолвны,
на двух кострах – горячем и холодном —
два клятвенных сосуда обжигали
для трех заветных и негласных слов.
Зола давно травою поросла
на том высоком и веселом косогоре,
но осень продолжает клятвам верить
и жжет костры, которые не пляшут,
и из сосудов просятся слова.
У самого Обского моря
«Надоело мне, надоело…»
Надоело мне, надоело
на постели отлеживать тело.
На дороги, пожалуй, выйду,
а дороги куда-нибудь выведут.
А на улице ночь как ночь
и порывисто нежный дождь.
Я иду по центральной улице,
по-щенячьи ветер балуется.
– Ну, отстань, дурачок! До тебя ли!
Надо кепку на брови напялить,
надо руки поглубже в карманы
и туда – за обочье, в туманы.
Да, такие у нас уж улицы,
необросшие домами.
Да, такие у нас уж улицы:
за обочье – и ты в тумане.
Погружаюсь в стоячие стаи,
создающие белый мрак.
Но светает.
Светает, светает,
и они отступают в овраг.
Настелясь на рассветные воды,
исчезают в море они,
на котором живут теплоходы,
за которым желтеют огни.
Да, такое у нас уж море —
в нем вода пресна и мутна.
Да, такое у нас уж море,
что заморская даль видна.
Наше море – все-таки море,
не такое уж и немое.
От него беспокойством пахнет,
перелесками пахнет и пашней.
Ну-ка, с берега призову я
золотую рыбку живую
и себе, наберусь-ка духу,
у нее попрошу старуху.
«Спускаюсь к синему морю…»
Спускаюсь к синему морю,
сажусь на песок мокрый,
загадываю пожелание,
выкладываю заклинание:
– Далей-Вазалей, владыка морей,
удачу-владычицу шли поскорей!
Сам же – взрослый, крученый-верченый, —
потешаюсь над сказкой доверчивой,
бормочу заклинанье с улыбкой…
– Дзинь!!!
Ослеп я, оглох, осип —
загорелись на води зыбкой
сонмы, сонмища золото-рыб!
Вот они на волнах играют,
вот они на меня набегают,
поворачиваюсь назад —
солнце!
Солнце!
Солнце в глаза!
Неожиданны и горячи
в волны выпущены лучи!
Получи!
Декабрь
Всю ночь ревел голодный зоопарк —
слоны трубили, волки люто выли:
пусты кормушки, ясли, кладовые,
куда-то и смотритель запропал.
Когда же в классах окна проявили
и ночь устало встала из-за парт,
тогда уже и клетки опустели,
и даже тех с рассветом не нашли.
Что ж, ночь ушла, и вместе с ней ушли
и голоса звериные метели.
Про белого бычка
Сказка начинает,
как в одном краю
девочка качает
куклу свою:
– Баю-бай-баю!
И расскажет сказка
про быль-старь:
– Вот тебе краски
и букварь!
Белое облако,
зеленый сад,
красные яблоки
на ветвях висят.
– Не рисуй яблоко —
то запретный плод,
нарисуй кораблик,
домик, самолет!
Но сады мужают
и стучат в окно,
их плоды вкушают —
так заведено.
Сказка продолжает,
как в ином краю
мама качает
девочку свою:
– Баю-бай-баю!
Каравания
Время странное, время раннее,
а вокруг-то – страна Каравания.
Степь верблюдов несет, те – поклажу,
и невольниц, дразнящих стражу.
Ах, никто-то на них не позарится —
евнух глаза не спустит с красавицы.
Всю пустыню пока не облазишь,
не отыщешь зеленый оазис.
А в оазисе – настоящий рай,
а какой там покой – караван-сарай!
И обычаи у владыки
сколь изысканы, столь и дики:
так и следуют – чаша за чашей —
крепкий кофе, шербет сладчайший.
На змеиную магию танца
посмотри – ты не зря скитался!
О, осанна! Подобной осанки
в мире нет, как у той караванки!
Щедр эмир:
– Вай! Прими мой подарок!
Как в отарах несчетно ярок,
так в серале – ее товарок…
Время раннее, место странное,
обиталище караванное!
В Каравании той – лишь я да кровать!..
Позаспался и самое время вставать.
Тепловоз
Локомотив, локомотив —
в нем ритм главнее, не мотив!
Леса, шлагбаумы, дома —
машину мимо проносило
организованною силой
железа, нефти и ума.
Вперед! вперед! – манил простор,
но непреложен семафор.
Движенье стало тяжелеть,
и затихали, еще жарки,
бока, как у коня в запарке…
И мне, как зверя в зоопарке,
его хотелось пожалеть.
Зеркало
У подъезда нашего – лужа!
Каждой весной появляется,
проявляется с каждым рассветом,
вместе с ним выцветая,
пестреет на солнечном ветерке —
лиловая, черная, голубая!
В затишье она идеальна
(идеальность идеалов подчеркивают
окурки в бензиновой бездне) —
это зеркало встреч
двойников ежевешних со мной.
Над яблоком надкушенным —
доедать ли? – раздумываю.
Хочется хрусткого,
настоящего яблока,
что заставит меня
не сутулиться – спину
освободить от пальто,
дать свободу глазам
от очков и узреть
вместо зеркала
с огрызком яблока
в грозовых облаках
место мокрое —
стоит дворнику
выдворить мусор,
как вслед за ручьями
сбежит и весна!
А в незримом заоблачьи
назревают медлительно
молодильные яблоки.
Квартирант
Сдается тело, мол, – повесил
я объявление на столб,
и некто этаким повесой
пришел и оперся на стол
безвидным задом:
– Вы хозяин? —
и взглядом вдоль и поперек
меня обмерил:
– Да-с, дизайн!…
Но, впрочем, бедность – не порок.
Я говорю:
– Не постоялец
мне нужен – дружественный дух,
а то иному дай лишь палец…
А он:
– Я нужное из двух!
– И чтобы – говорю – был весел,
на юбки чтобы не глядел…
– У нас, хозяин, – он ответил —
полно своих, духовных дел.
На том срядились мы, и в тушу
вселился квартирант как есть.
Живем душа, казалось, в душу:
– Ты здесь? – спрошу, в ответ он:
– Здесь!
Но как-то ночью – бац! – проруха:
– Ты здесь? – спросил…
И ни словца!
Зудит в силках паучьих муха,
а духа нету, стервеца!
Про то, что я горяч в расправе,
не знал, конечно, дурачок.
Я сети хитрые расставил,
но сам попался на крючок
и влип – по самую макушку —
в его лукавое житье:
в сетях милуется он с душкой,
а я – с хозяйкою ее.
Сказка о встрече
Шел мужественный и высокий,
и строгий шов
по ворсу вымокшей осоки
шел от шагов,
и прошивал он покрывала
зим и степей,
когда ж весной следы смывало —
след цвел сильней,
летописал цветною нитью
на том ковре,
как вместе с ночью по наитью
он шел к заре.
Простоволоса, в светлой дымке
шла хороша,
и в лад судьбе-неуловимке
певуч был шаг,
играли два грудей овала
в огне воды,
волненье плеса целовало
ее следы,
и там, где краснотал качался,
к заре другой
путь меж кувшинок означался
водой нагой.
Вставало солнце удивленно,
как желтый слон,
деревьев тени, как знамена,
кладя на склон,
а птицы и ручьи болтали,
что – не понять.
Что ж встреча тех двоих – была ли?
Как знать, как знать…
О встречах слыхивал, не скрою,
коротких, ах, —
заря встречается с зарею
на северах!
Камень
А. Птицыну
Сухой язык прилипнет к нёбу.
Придя к мохнатым валунам,
молча от ярости, я злобу
на камни выхлещу сполна.
Плеть сыромятная просвищет,
мох прыснет с каменного тела,
но лопнет злое кнутовище,
повиснут руки опустело,
и станет стыдно…
И преданья
идут к остывшей голове
о милостивом божестве,
что избавляет от страданья:
коснется золота на миг
и роем пчел запламенеет,
а исцеляя горемык,
само от горя каменеет.
И стыдно мне.
Возьмусь руками
и чувствую – вздыхает камень.
Осенние строфы
Твоя пора, потешная игра, —
с теплом отходит лето под экватор!
Как на гравюрах из времен Петра,
небесные баталии косматы,
и бреющие на земле ветра!
Весна приходит, лето настает,
по-королевски осень выступает
и золотом как будто осыпает.
Но снег вот-вот на голову падет,
а королева голая идет!
Мельня
У струй замшелых рек,
что начинают бег
водою ключевою, —
на мельнице забытой
творится время все – нехватка и избыток,
все бремя времени, на все живое.
Великий Мельник сносит непрестанно
в помол грядущего зерно,
в котором – первозданно —
изменчивое с вечным сведено,
и мелево выносится на форум
и пожирается немедля хором,
в котором нет числа мирам и меры временам,
крупчатка жизни сыплется и нам.
Напряг безостановочен работы,
нет роздыху, не сбавить обороты:
и жернова прожорливо скрежещут,
и колесо скрипит, и плицы мерно плещут,
и с желоба язык струи, свисая, блещет
от солнц и лун, сменяющих друг друга,
и мудрая вода бормочет без досуга:
– Замрешь на миг, вовек не отомрешь —
беги, пока бежишь, хотя б и невтерпеж!..
Мне слышен этот голос поневоле,
тварь божия – бодлив я, да комол
и невелик, а все же мукомол
доставшейся мне доли.
Новосибирск. 1962–1966
Целиноград. 1965