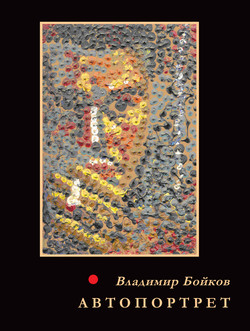Читать книгу Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011 - Владимир Бойков - Страница 6
Странствования
1958–1966
К западу от востока
Оглавление«Удеру я к чертовой матери…»
Удеру я к чертовой матери,
чтоб дороги меня излохматили,
удеру я к чертовой матери
от тебя – на вагоне, на катере…
Мне удрать бы в далекую Индию —
за индуса, глядишь, сойду, —
лишь бы только глаза не видели
этих бешеных весен беду,
Но куда от себя мне деться,
от моих на тебя молений?
Мне одно лишь целебно средство —
взять уткнуться тебе в колени.
Охота
Закат жар-птицей по волнам
рассыпал перья пламени,
но постепенно полинял,
и небосвод стал правильней.
Я жадно ждал: взметнется дичь —
по небу точек россыпь,
хотел я дробью дичь настичь,
схватить и в лодку бросить.
И ствол меж черных камышей
косился черным козырем,
и вот отчетливой мишень
над темным стала озером.
Я не сорвал, нажав курок,
урок естествознания,
и шлепал борт, и был гребок
куда весомей знамени.
Валялось на корме ружье
без улетевшей дичи,
азарт лишь, схваченный живьем,
был подлинной добычей.
Гробница
Громады Тянь-Шаня – немые симфонии,
замерли скалы – застигнуты в пляске,
реку дробят водопадов сифоны,
осипший Талас рвется в поисках ласки
на север,
на степи.
Там воздух из видимых запахов соткан —
полынью и дымом аулов прогорк,
там тянется к солнцу слепая высотка —
последний аккорд замирающих гор.
Давно-предавно джигит —
удал, но беден он был —
себе на беду полюбил
красавицу Джизубигит.
Поклялся:
– Будет калым!
А утром другого дня
в степи лишь следы коня
и дали окутал дым.
А там за походом поход,
за годом – другой, и вот
пора удальцу назад,
хорош и уже богат —
хурджин золотыми набит.
Довольный, гонит коня,
а утром другого дня
вести невесте:
– Обидно бытыр убит…
Ночь тихо плетет паутину из звезд,
немой карагач к небу руки вознес,
недвижные стражи – стоят тополя,
полынно-долинно пахнет земля.
На четкой высотке печаль бледнолица,
луны отраженье под белой гробницей,
и отзыв Таласа на вздох из-под плит:
– Джизубигит… Джизубигит…
В горах
«Мы ходим верхами…»
Мы ходим верхами,
мы ходим низами,
находим архаров
одними глазами.
Мы ходим с ружьем,
бутерброды жуем,
запивая кипящим
в каменьях ручьем.
Мы желаем запоем
слушать звоны цикад
и навечно запомнить
цветущий закат.
Раскатаем потом
этот яркий ковер
так же, как разожжем
этой ночью костер.
«С чистой музыкой сверь…»
С чистой музыкой сверь
в звездных высях светание —
этих грифельных сфер
на глазах выцветание.
Над пустотами свет,
просквозив, задевает
гребни гор, и хребет
за хребтом оживает.
Но слепящий раструб
солнца в зыбкости рани —
за уступом уступ —
обнажает их грани
и не глянет туда,
где во мраке ребристом
неизбежна вода
в прыжке серебристом
«Тонехоньки рученьки —…»
Тонехоньки рученьки —
прутики-урючинки,
из-за дувала выглядывают —
новости выкладывают:
урюк цветет!
По прогнозам
быть морозам —
для старух
страх,
а урючина цветет
в пух,
в прах!
Розовая жуть —
радуется жук!
Звонят на урок:
цветет урюк!
Видать, и в Сибири
капли забили
радугой в лед:
урюк цветет!
«У Дома пионеров…»
У Дома пионеров,
проскрежетав по нервам,
горит,
горнит
в руках у Рыжего,
который горд, —
горн!
– Эй, Рыжий, дай
побаловаться горном
с охрипшим горлом!
За мной не пропадет —
найдется вдруг струя
в дыханье горьком,
которая
по-детски пропоет.
На шелковом пути
«Среди равнины…»
Среди равнины
торчат упрямо
орлы на руинах
дворца или храма.
Палящий полдень,
полынь да пыль,
ленивому поддан
ветру ковыль.
Варан разъярен —
ворохнулся бархан,
звон-позвон-перезвон —
идет караван.
Несут купцы
бород ножи,
усов ножницы.
Впереди – миражи,
и грезится отдых
на верблюжьих мордах,
на горбах же – скопцы
и наложницы.
Э, эмир нашел,
что менять на шелк!
«Плыла пиала луны…»
Плыла пиала луны,
сочилась кумысом степь,
и мучились валуны,
оставленные толстеть.
Причудливых теней провал —
очерчивался привал.
Немела монета луны,
но тысячезвонна степь
и тени иные вольны
разбойничье просвистеть.
Косились купцы на луну,
ощупывая мошну.
Бледнеет лицо луны —
булатом сболтнула степь,
в тени меж тюков пластуны,
сладка степная постель —
полынь, аромат, дурман…
Проспал даже смерть караван.
Безмолвие
Ночь.
Степь.
Дорога.
Здесь луну
совсем недавно провезли,
напросыпали, натрясли
серебряную тишину.
Идем как будто по луне,
навстречу кустики встают,
и ни словца —
не узнают,
идем вдвоем по тишине,
Над степью серебристый флер,
распространяемый луной,
но мы идем ко тьме сплошной
под горизонтом черных гор.
Мир обновим там из костра,
багрово-желтые мазки
на живописные куски
заменят скупость серебра,
жесть алюминиевых лиц
набрякнет кровью черепиц,
свод неба рваные дымы
начнут качать…
Шагаем мы
в ладу с безмолвием степи,
вдруг приостановясь, поймем
свое молчание вдвоем
как недоступные стихи.
Степь…
«В гостях у линий и у чисел…»
В гостях у линий и у чисел
я почитаем здесь – учитель! —
и за спиной сопенье глаз:
восьмой мой класс.
Исчерпав дело
и суть вопроса,
девчонка села.
Все это просто,
да разве ж серо!
Мой класс – мирок,
доска, мелок:
– Стучи, милок!
(чему подобно
на стыках дробны
и поезда,
но косны, косны).
Доска – нам космос,
мел – звезда!
Что делается
Цветы на газонах шутами
танцуют, и сердится шмель.
Шатает дома и шатает
деревья неведомый хмель.
От ветра – ответ вероятный —
в аллеях отсутствует сор,
от ветра и грозные пятна
уходят с небесных озер,
от ветра и солнечный обруч
под моточиханье и треск,
пылая над крышами обочь,
на свой возвращается трек.
Откуда он, резв и приветлив,
тот ветер? Да что за вопрос!
Конечно же город проветрил
качелей воздушный насос,
где платья скрипучим маршрутом
то лепят фигур горельеф,
то вспучиваются парашютом,
упружьями ног засмуглев.
Не лужа, а сброшенный вымпел
с высот – синева разлеглась,
и жук, любопытствуя, выполз,
выпуклый словно глаз.
«Он жить любил грешно и жадно…»
Порваны струны гитарные, порваны,
Песни неспетые плавятся в памяти:
– Вороны черные! Старые вороны!
Что продаете вы, что покупаете?
(Ю. Шпильберг)
Он жить любил грешно и жадно,
но все кончается однажды,
и мир, который нажит,
бунтует беспощадно.
Вот щупальца пружинят под обивкой,
стол виден плахой, плащ висит наживкой.
Страх побежденный надвое расколот:
предощущаем бритвы острый холод,
и жарко сердце хочет биться.
Все решено самоубийцей.
Хотел он боль души избыть
и боль и прошлое забыть,
и бритва, что притягивала взгляд,
вдруг греется о горло наугад…
С самоубийцей этим я знаком, —
желанье жить есть божеский закон,
дающий волю пуле, и петле, —
он в неутешном выжил феврале.
«На стадионе…»
На стадионе
ветер студеный,
день у солнца на кончике,
а на старте
клок тетрадочный, скорченный
от любви не наставшей.
Отпредавшись восторгу свистания —
все полегче им, —
разошлись по домам и свиданиям
все болельщики.
Наступает пора новых матчей —
часы встреч,
и томится долговязый мальчик
между плеч.
Я, болея за нашу команду
и не чая ничьих,
слышу, слышу весны канонаду
в недалекой ночи,
потому что болельщик просто
за любовь:
– Целый час в твою пользу, подросток,
эта боль!
Гастроль
Над бутафорским датским королевством
мышей летучих лоскутки —
беззвучные аплодисменты.
Нет зрителей – ряды молчащих Гамлетов
сверяют свою совесть с той, мятущейся
на сцене ветхой, словно в мире целом
восстали тени сгубленных отцов.
Незримыми терзаемый страстями
рассудок сам – наполовину страсть:
как быть?..
Да разве ж не завидней одержимость
безумного испанца из Ламанчи?!
Над бутафорским датским королевством
угасли фонари, рукоплесканья
иссякли, выставились звезды.
Нет Гамлета – немолодой актер
стирает грим, в аллеи из партера,
безмолвствуя, уходят эльсинорцы.
День завтрашний приподнимает плечи:
как быть?..
«Упал кочевник от удара —…»
Учитель, странствуя, решил закусить у дороги и, отогнув полынь, заметил столетний череп.
(Лецзы)
В этом черепе был когда-то язык, его обладатель умел петь.
(В. Шекспир. «Гамлет»)
Упал кочевник от удара —
и покатилась голова
и черным оком увидала,
как перекрасилась трава.
Тот, кто ее булатом узким
перехватил у кадыка,
мог знать, какая звездным сгустком
в зрачках отчаялась тоска.
О чем?
Не знаю – мне ли через
тысячелетие пробиться!
Нет, не донес безвестный череп
мне весть в пустых теперь глазницах.
Мне б самому в той схватке скорой
и уловить, отринув злость,
тоску по родине, которой
ему объять не удалось.
В парке культуры
Какой денек!
В аллее за фонтаном
обрызган солнцем свежепобеленный,
с приветственной рукой
скульптурный мальчик:
– Салют!
– Салют!
В какие занесло меня века?
Поблизости играют пацаны,
шевелится во мне страшок забытый —
что, если, палец на меня нацелив,
один из них вдруг выпалит:
– Замри!
И я замру (куда ж деваться – с детства
такой есть уговор).
– Эй, оголец, взгляни-ка:
на пьедестале вон ровесник твой
(когда-то был моим и всей эпохи даже) —
в трусах и с галстуком на шее,
всегда готов на все, он гипсов словно шина
на переломе.
Что, если он устал салютовать, —
живая кость давно б уже срослась, —
так, может, разрешить: мол, отомри!
Не отомрет, конечно, нет,
а все же…
«На октябрьский лес…»
На октябрьский лес,
на опавшее зарево листьев
снежный сонм от небес
до земли ниспадает неистов,
в мельтешении белом,
в тихой дреме березы седы,
им, расцвеченным мелом
розоватым, не снятся ль сады
или горные скулы,
на которых красуются зори,
иль узоры аулов
в золотистых туманах предгорий.
Там, где все еще лето
и сияет луны медальон,
не закрался ли это
повзрослевшей возлюбленной в сон
восхитительный хмель
первой нежности и поцелуя,
через тридцать земель
коим страсти не утолю я,
не смогу под ногами
ощутить я планеты летучесть:
под ли, над ли снегами
злых времен пребывать – счастья участь.
Среди Евразии
Г. Прашкевичу
Вам привезут невзрачный камень
и скажут, сдерживая пыл,
что камнем тем прапапа Каин
прапапу Авеля убил.
Вам привезут коробку с прахом
из фараоновых гробниц
и скажут с хохотком и страхом,
что пылу древних нет границ.
Не позавидуйте счастливцам
и гляньте под ноги себе:
приют здесь вечный стольким лицам,
пылившим в мировой судьбе!
Новосибирск. Джамбул. 1960–1964