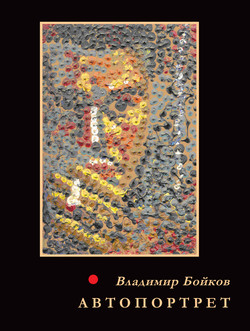Читать книгу Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011 - Владимир Бойков - Страница 14
Обоюдность
1966–1974
Зимние тетради
ОглавлениеI. Посещения
Юрию Кононенко
Всю ту морозную, снежную и ветреную зиму я обитал у тебя в мастерской.
Будни занимала служба, а досуги коротались как придется.
В гостях бывали редко. Иногда нас посещали друзья и женщины, но чаще – грезы.
Живые подробности той поры стали забываться, но стихи остались, и вот некоторые – тебе и другим на память.
Слух напрягается
в непроглядности
вьюг и ночей.
Взять скворечницу бы что ли
смастерить?
Сквозь вьюжный чад
кто пойдет по доброй воле
в гости!?
Ходики стучат,
да порой кукушка дверцу
открывает – огласить
получасье: все хоть сердцу
веселее колесить!
Пой же, время!
Пусть надтреснут
бой, одышливы мехи!
Может быть, еще воскреснут,
отогреются стихи!
В самый час на плитке жаркой
чайник ожил и запел,
в самый раз весь круг заваркой
обнести бы, да успел
спохватиться: разве ж гости
припозднятся по такой
непогоде!..
Есть хоть гвозди,
слава Богу, в мастерской.
Вон в роще заиндевелой
ветка оголенная
закачалась.
День-деньской перед глазами
хладнокаменный январь.
На сугробе гребнем замер
вьюг стремительный словарь.
Я бы зиму-зимски пропил —
отлегло бы и с концом!
Но в окне девичий профиль
вспыхнул белым изразцом.
От какого наважденья
воплотилось на стекло
отпечатком сновиденья
мимолетное тепло?
Невозможный этот случай
не уложится в мозгу —
пальцы разве лишь колючей
изморозью обожгу.
Вот что в воздухе витало,
чем дышал я, что, хотя
слов, казалось, не хватало,
проявилось вдруг шутя!
Белыми мотыльками
вокруг фонаря
снеговерть обозначена.
Все хранит, что я утратил,
горькой памяти подвал.
До утра со мной приятель,
гость заезжий, тосковал.
О разлучных белых зимах
горевали вполпьяна,
словно вьюга нам любимых
навевала имена.
Не отбеливали совесть,
не тревожили грехи.
Помня все, забылись, то есть
впали в белые стихи,
не боясь тяжелым вздохом
эту легкость перебить.
Скоморох со скоморохом
может сам собою быть.
Ближе к трезвости по кругу
шли остатки папирос…
Проводил.
И впал во вьюгу —
в белый рой застывших слез.
Из ложбинки в ложбинку
снег пересыпается —
места себе не находит.
Тем лишь красит мой акрополь
стужи мраморная мгла,
что не сходит белый профиль
в нише светлой со стекла.
Пусть сосет тепло живое
этот стылый зимний свет,
пусть подобного покоя
ничего печальней нет,
но метелица немая
хоть поземкой да жива!
Вот и я припоминаю
побеспечнее слова
и спешу веселья ради
чашку чая нацедить —
ну, прилично ли в тетради
общей вздохи разводить!
Чем не скатерть-самобранка
чистый лист, в конце концов!
Чем еще не жизнь – времянка
сочинителя дворцов!
Вновь взметается
снежный смерч,
бесприютно свет обежавший.
Все лицо зацеловала —
мокрых век не разлепить.
Метят ласковые жала
все слезами затопить.
Шалью белой облипает,
нежным зверем льнет к жилью,
и в дверях не отступает,
тянет песенку свою.
Утихает на порожке,
растворяется в тепле,
лишь серебряные крошки
оседают на стекле.
Это все, что на бумаге
остается от меня,
да и то боится влаги,
а точней сказать – огня…
Морок вьюги изнебесной
завился в семи ветрах:
чуть вздохни – и слезкой пресной
обернется на губах.
Мысли, как снежные вихри:
прилетают и распадаются в прах,
возникают и уносятся прочь.
Я ушел.
В себя.
Далеко.
Знаю, как тебе со мной
рядом кутать одиноко
плечи в шарфик шерстяной.
Но не горько, а скорее
терпеливо и светло,
чашкой с чаем руки грея,
в мутное глядишь стекло.
Там, за ним, с исходом ночи,
словно разом вслух сказать,
звезды наших одиночеств
начинают исчезать.
Воет снегоочиститель,
в чашке чай давно остыл.
Как легко в мою обитель
я тебя переместил!
Если впрямь придешь ко мне ты —
не столкнись сама с собой,
не сожги моей планеты,
грезы этой голубой.
Вплавлена синева
в разводы инея:
эмаль по серебру.
Чувствуется, вот нагрянет
марта первое число,
запуржит, и забуранит,
и залепит все стекло.
Как часам в железном беге
износится суждено,
так исчезнет в белом снеге
то, что снегом рождено, —
и навеки белый профиль
за завьюженным окном
сгинет в царстве белых кровель
с белогривым скакуном.
Но качнется чуть подкова
рядом с дверью на гвозде,
как тоска очнется снова
на грунтованном холсте,
и какой бы слов разъятье
звучностью ни пронизать,
вся их музыка – проклятье,
если некому сказать.
Тянет свежестью —
белья ли, газет ли —
от надтаявшего снега.
Книгочийствую ночами,
связью терпкой упоен
будней наших с мелочами
вязью писанных времен.
Мыслей чаша круговая
переходит от судеб
к судьбам, суть передавая:
как вода, как черный хлеб,
жизнь сладка!
Тому порукой
мука трудная моя,
от которой и с подругой
легкой нет мне забытья.
Перышко еще от птицы
вечности не принесло,
и в конце еще страницы
не проставлено число,
и картонке на мольберте
весь не отдан непокой,
чтобы день, другой по смерти
праздность править в мастерской.
Вот и событие:
ветер переменился.
Снег осунулся, но тропку
за ночь свежим занесло.
В учреждение торопко
я бреду, чтоб в ремесло
впрячься и свою природу
тратить фабрикой ума —
любоваться на погоду
без отрыва от бумаг.
Днем в безликости расчета
трезвый торжествует бог,
но для вечера он черта
человечного сберег.
И толчет ледышки в ступе
рыжий чертушка – мой друг.
Может, оттепель наступит
в самом деле, если вдруг
в нетерпении подрамник
он холстиной оснастит, —
пусть там завтра спозаранок
тропка мерзлая хрустит…
Что-то лопочет
на тумбе в просевшем сугробе
обрывок афиши.
В ясный день, хотя и не пил,
странно пьян я.
Узнаю
в талом снеге серый пепел
пропылавших белых вьюг.
С крыш в синичий знобкий воздух
спички капель чирк да чирк,
сквозняком труху на гнездах
ворошит весенний цирк.
Что ж, приспел апрель пернатый
и куражится скворцом —
враль, хвастун невероятный
над копеечным дворцом.
Над проталиной у дома
слезный зыблется парок —
в неземной мои фантомы
зимние плывут чертог.
Но мурашком новой жизни
проникает под пальто,
хохоча на вечной тризне
сумасшедший шапито.
Новосибирск. 1968–1969
II. Путевые заметки
Э. Шиловскому
«Невозможно много за ночь…»
Невозможно много за ночь
перечувствовано мной.
Внята эта несказанность
изморозью кружевной.
С отрезвляющим апрелем
разлететься в светлый дым
тонким этим акварелям,
наслоеньям ледяным.
Совершится неизбежный
четвертей круговорот,
и туман узора нежный
на мгновенье оживет.
Исчезая, он заплачет —
грянет струйки тонкой трель.
Декабрем был образ зачат,
а сотрет его апрель.
Через пальцы просочится
с подоконника вода.
Только чистая страница,
может, явит иногда
вихрем мысленных материй
в голубиной воркотне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«В монотонные просторы…»
В монотонные просторы,
в столбовые провода
наши с вьюгой разговоры
затянулись без следа.
За страницу белых стекол
в масляный гляжу глазок,
слышу, слышу, как зацокал
белкой серою лесок.
Времена чем невозвратней,
тем в помине голубей.
Поднимаю с голубятни
стаю белых голубей.
Понемногу с каждой птицей
набираю высоту.
Лишь бы им не утомиться,
не исчезнуть на лету,
лишь бы только передали,
что их движет изнутри!
И в неведомые дали
пропадают почтари.
Не хозяин я теперь им,
как и не жилище мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«Истощились снегопады…»
Истощились снегопады,
и утишились ветра.
Только дворницкой лопаты
шорох слышится с утра.
Простираясь недалеко,
мысли зримые тихи,
и мгновенна подоплека
вдоха-выдоха в стихи.
Бог ли дали мне зашторил
серебристою тоской?
Наяву я грежу что ли?
Жду ль кого-то день-деньской?
Мимолетность – лейтмотивом
всякого черновика.
Иней в окнах – негативом
писанного на века.
Задержавшемуся мигу
удосужив свой кивок,
я вникаю в эту книгу
и в застрочье, и меж строк,
где пробелом между делом
неизменно явен мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«Запропали где-то вихри…»
Запропали где-то вихри —
позади иль впереди…
Хруст шагов – чужих, своих ли —
душу только бередит.
Гвоздь ко всякому моменту
звонко ходики куют
и за чистую монету
гвозди эти выдают.
Настоящего событья
кто б удачней прикупил:
в каждом "есть" могу открыть я,
что ж я буду, что ж я был!..
Разве не мгновенна вечность —
я же в вечности бреду!
Может, в этом я беспечность
наконец-то обрету?
Вот уж чувствую вольготу —
бить перестает в виски
жизнью втянутый в работу
маятник моей тоски,
и теряю счет неделям —
поглотил меня вполне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«От тишайшей этой стужи…»
От тишайшей этой стужи
и от каменных палат
я решил бежать, и тут же,
взяв билет, я стал крылат
в предвкушении сперва лишь,
как меня, оторопев,
встретит славный мой товарищ,
деревенский терапевт!
То-то б нам покуролесить,
но пургою мой визит
сбит с маршрута и АН-10
в непредвиденный транзит.
В заметенной деревеньке
мой гостиничный редут,
где теряются не деньги —
в счет деньки мои идут —
и дотошный где будильник
этот вьюжный свет честит.
Закадычный собутыльник
здесь меня не навестит.
Отнесен, считай, к потерям
в снежной этой пелене
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«На крутую эту вьюгу…»
На крутую эту вьюгу
тишь внезапная легла,
наконец-то, в гости к другу
мне пробиться помогла.
Медицинским чистым спиртом
разбавлялся разговор,
и под звездный свод испытан
нужный путь на снежный двор.
В лад не спящей ли царевне
белый обморок зимы —
всей поди слышны деревне
торопливые пимы.
Запоздало попущенье —
израсходованы дни,
и на все про все общенье
сутки выдались одни.
Рано утром эскулапа
обнимаю я с тоской.
С трехступенчатого трапа
помахав ему рукой,
улечу к своим пределам,
где предстанет внове мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне
«Возвращенье из глубинки…»
Возвращенье из глубинки,
честно говоря, глуши,
как из валенок в ботинки
переход моей души.
Вьюги подвели итоги,
и сугробы аж в этаж.
Приедается убогий
в окна въевшийся пейзаж.
Иль считать за подмалевок,
или ж, раз на то пошло,
что для нежных лессировок
загрунтовано стекло?
Но шутя разоблачится
выспренних метафор муть —
надо в ночь лишь отлучиться
и холодного хлебнуть,
где проглядывает льдинкой
в синем воздухе луна.
Этот мой коктейль с чудинкой
надо выцедить до дна,
чтобы в ясности мороза
кроме звезд не стало грез.
Кончилась метаморфоза.
Никаких метаморфоз.
Сам я праздным подмастерьем
отвернул лицом к стене
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
«О, душа! Ты – горожанка…»
О, душа! Ты – горожанка!
Воздух здесь хоть и свинцов,
окнецо здесь и лежанка
для тебя, в конце концов.
Здесь житейские заботы
словно псы на поводке.
Здесь и встречи ждут субботы
с кем-нибудь накоротке.
В огненность моих ладоней
медленность ее плечей,
а глаза в глаза – бездонней
кристаллических ночей.
Может статься, сгустком боли
подберется сердце в мозг
от безвыходной любови
и невыплаканных слез:
только-только глянуть стоит
на пустой экран окна,
как желание простое —
плакать – вымерзнет до дна.
Да отнюдь же не смертелен,
а спасителен вдвойне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.
Новосибирск. 1969–1970