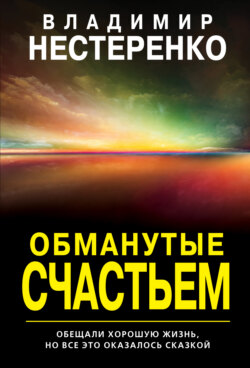Читать книгу Обманутые счастьем - Владимир Нестеренко - Страница 16
Часть вторая
Тайна сгоревшей нивы
1
ОглавлениеХутор Подлесный за последнее десятилетие широко раскинул крылья-улицы по обеим сторонам балки и превратился в настоящее село, мало уступая по численности дворов Зубково. Две крайние усадьбы, дающие начало улицы Лесная, выделялись из общего ансамбля своей основательностью построек: добротные дома с глазастыми окнами, ставнями с молочным орнаментом на голубом фоне; бревенчатые, длинные хлева с высокими сеновалами; амбары с клунями; обширный загон для скота с высоким заплотом из жердей. Постройки компактны, как фигуры на шахматной доске, видно, что хозяева экономно застроили усадьбы, несколько потеснив огороды. К усадьбам тянется из перелеска дорога, отсыпанная гравием и хорошо утрамбованная.
К глухим тесовым воротам октябрьским знобким вечером подкатили легковые дрожки, из них выскочил Иван Нестарко, рослый и чубатый, как и отец, одетый в городской полосатый костюм и осеннее пальто нараспашку, привычно распахнул воротины. Седок в дрожках, шевельнул вожжами и въехал в просторный перед домом двор усыпанный мелким гравием, с островками низкого кучерявого спорыша. От калитки до крыльца веранды тянулся дощатый тротуар, местами покрашенный опавшей хвоей со стройной ели, стоящей в палисаде перед верандой. Иван не успел закрыть ворота, как сначала услышал легкий топот ног и тут же почувствовал жаркое объятие, обдавшее его теплой волной.
– Ванечка! Как долго я тебя не видела! Дай – расцелую! – Мать никогда не забывает того, как выглядел сын в последнюю минуту расставания, и образ, как в зеркале, постоянно отражается в памяти, но образ застывший и мало греющий ей душу, хотя и желанный. Теперь сын перед её глазами. В городской одежде он несколько изменился: повзрослел, выглядел опрятным и стройным. Она это сразу приметила, но не исхудал, хотя три месяца живет вдали от дома без маминого стола.
– Мама, – повернулся Иван, склоняя высокую голову и принимая ласку матери, – я уж не маленький целоваться.
– Вырос, вижу, порубок в отца, – на оазисах её щёк розовел знакомый сыну румянец красоты.
– А ты порадуй маму ответно! – раздался добродушный голос отца. – Почеломкайтесь!
Евграф Алексеевич погрузнел, стал стричь накоротко бороду и усы. Шевелюра по-прежнему разваливалась на две стороны, закрывая уши. Одет он был в легкое пальто с папахой на голове, в шароварах, но гораздо уже, чем прежде, в яловых добротных сапогах, тогда как сын носил ботинки.
– Скоренько в хату, – ворковала Одарка, как голубица на застрёхе, подхватив сына под руку и увлекая в дом, шурша калошами, одетыми на босу ногу. – Пельмени сибирские в русской печи томятся, твой любимый пирог с брусникой, и сметана с ряженкой – ждут тебя, сынок!
– Всё съем, мама, специально не перекусывал в дороге, – задорно отвечал Иван, радуясь встречи с мамой, с родной усадьбой, где рос и играл, учился крестьянскому труду, ублажал родителей смышленостью.
– Ну и напрасно. Уж вечер, в дороге полдня впроголодь.
– Я теперь студент высшего заведения, мама, привыкаю. Вы идите в дом, я папе помогу каурого распрячь.
– Сам справится.
– Нехорошо забывать привычное дело. Пусть лучше он идёт в дом.
Отцу понравилось, что сын взялся распрягать лошадь. Он стоял и смотрел, как Иван быстро справился с упряжью, пустил жеребца в загон к общему косяку, недавно пригнанному на зимовку с летних выпасов. Тут же за пряслами стоял скирд сена с духмяным степным запахом. За перегородкой у кормушек уминали это сено коровы и телята.
На кухне хлопотала четырнадцатилетняя чернявая красавица Даша, с тяжелыми, каштановыми косами за спиной, в белоснежной блузке и длинной сатиновой юбке, подбитой внизу ажурной вышивкой. Она обернулась на хлопнувшую дверь и бросилась в объятия брату. Повисла на шее.
– Ой, Ванечка, какой нарядный у тебя костюм, ты в нём словно барин, – через минуту щебетала она, – городской гарный парубок! Как ты там, устроился? Садись за стол, сейчас я пельмени достану.
Иван вынул из кармана плитки шоколада, одну подал Даше, вторую и третью – шумно прибежавшим в кухню младшеньким Гоше и Лене, а четвертую косолапо шагавшему и пустившемуся в рёв Феде.
– Вам сладости, а маме – косынку на плечи, – сказал Иван, набрасывая матери цветастый шелковый треугольник.
Одарка благодарно сверкнула глазами, поцеловала в щеку Ивана.
– У-у, московский, – сказала Даша, разглядывая подарок, – долго же он путешествовал.
– Нет, меньше недели, – Иван подошёл к рукомойнику и сполоснул руки, озираясь по сторонам. – Где же Коля?
– На мельнице, должен уже быть дома, – ответил отец, – видно очередь. А вот и он легок на помине.
Дверь шумно распахнулась, и в дом влетел Коля, только что вернувшийся с помола пшеницы. На его зипуне оставались мучные следы, он, сбрасывая на ходу верхнюю одежду, подскочил к брату, широко расставив руки, и они крепко обнялись.
– Братка, никак студент теперь? – кричал Коля радостно. – Гляди, какой стал культурный, точеный!
– Все в сборе, теперь можно ответить на вопросы. – Иван розовел от бурного внимания своих родных с горделивым смущением. – Этот год буду обучаться в Карасуке, а в январе поеду в Томск учиться на врача в Императорском Первом Сибирском университете. Науку деда и тяти – врачевания перейму и возвышу.
– Слыхали! Где наш сын и брат будет науку познавать? Нам и не снилось. А вот гляди-ка! Башковитый Ванюша вон аж, в какие круги пробился! Ну, пора за трапезу. Хорошие вести чаркой закрепим.
Говорливая и возбуждённая семья шумно уселась за стол, и сытная трапеза началась.
Назавтра соседи встретились сумрачным утром. Степан, горя желанием расспросить о новостях, пришёл на конюшню к Евграфу. После обычного приветствия, присели на лавку, свернули цигарки, задымили. Серое утро брезжило холодным осенним рассветом. Ветер в загоне шевелил объедьями грубого сена, сытые лошади стоя дремали. Поскуливали сторожевые цепные псы. Из теплого хлева доносились голоса Одарки и Даши, приступившие к дойке коров.
– Привёз сына? Как он?
– Молодцом. Но думка у меня нелёгкая.
– Теперь она у каждого пудовая. Что слышно в Карасуке о войне?
– С казачьей станицы полусотня казаков пошла на Барабинск. Там погрузка на поезд вместе с конями. Покатят на фронт.
– Такова у них доля, Граня, государево войско. Опора.
– Не спорю. Нам, Стёпа, удалось избежать военной драки с японцем. И теперь не загребут в обоз ополченцами, годы нас стерегут, а вот сыны наши – загудят, – Евграф в сердцах бросил на землю цигарку, растёр сапогом. – Надо ли нам такой расклад?
– Твои пока не призывного возраста, а вот мой Семён, – Степан задумчиво смотрел на свой ухоженный двор, где густо ходили куры, у долблёного корыта с водой гоготали гуси, в палисаде, склонив ветки, стояла голая берёзка, тёмной хвоей пушилась ель, отливали яркой охрой не снятые гроздья калины. – Ты думаешь, война затянется на годы?
– Любая война не кончается месяцем, под Австро-Венгерской империей половина Европы. Германцы тут же, а они вояки упорные. Гаубиц у них богато, бьют черти надсадно. В Карасуке, слышно, уже есть похоронки.
– Сыновей растили для земледелия, выходит – для войны.
– Семёна твоего и моего Ивана по военному уставу, как первенцев семьи, пока не загребут, ты знаешь, а вот младшие могут успеть подрасти и стать пушечным мясом…
– Бог с тобой, Граня, душа холодеет от твоих слов!
– Война – петля распроклятая, безжалостная! Вся Европа на дыбы встала. На западе французы с англичанами фронт открыли – наши союзники. Японец на Дальнем Востоке бывший враг и победитель, теперь за нас стоит. На юге турки зашевелились, через Кавказ грозятся хлынуть в отместку за давние поражения от русских. Туда заслон надо крепкий ставить. Где ж тут одним годом обойдётся. Вот какие новости в Карасуке волком голодным рыщут.
– Мир сошёл с ума. Мы с тобой тут полтора десятка лет сидим. Как встали на ноги, как развернулись! Жить бы припеваючи, а вместо этого ночи бессонные за сынов наших. Пойду, управляться. Семён с Петром хоть и хваткие, а всё равно без меня не обходится хозяйство.
– Дожили, Стёпа, до своих помощников. Отказались от наёмных. Хлопцы наши и дочки, хоть и в школах обучались, а всё одно ремесло наше им милей. Только мой Ванюша решил доктором стать. Пусть! Я ему помощник.
Приятели тяжело поднялись и принялись за хозяйственные дела, где в коровниках продолжали раздаваться голоса жён и детей.
Отказались от батраков компаньоны не только по своей воле, напугал почти трехгодичный раскат волнений в центральных городах и губерниях России, на Черноморском флоте, хотя разросшиеся хозяйства требовали дополнительных рук. Евграф уж по сложившейся традиции между приятелями первый давал оценку вооруженным восстаниям в Петербурге и в Москве.
– Нам ни к чему эти драки, Стёпа. Мы с тобой, как и большинство переселенцев – мирные хлеборобы. Кто нам помог попасть сюда и встать на ноги? Государь-император. Так на кой шут, я буду против него горло драть?!
– Ныне модное слово – революция пугает многих. Серафим с Емельяном как-то встретились, говорят: «Не спокойно на душе. Как бы нас, крепких хозяев, зачинщики смуты эксплуататорами не обозвали». Этих революционеров, Граня, я бы загнал к нам на годик – в наше ярмо. Посмотрел бы, что они запоют после такой жизни?
– Упадут, Стёпа, в борозде. Они наше ремесло знают плохо, вот и орут о свободе, мол, царизм виноват в том тяжком труде. Как будто падёт монаршая власть, хлеб сам по себе будет сыпать в закрома. Не тебе рассказывать, что хлеб без пролитого поту не растёт.
– Как же быть нам?
– Придётся, Стёпа, пока сыны наши не подрастут, остановиться с ростом хозяйства и от батраков отказаться. Иначе оно нас досрочно в гроб загонит.
Как ни старались обходиться своими силами, а сев и осенняя страда заставляли нанимать батраков. Обычно это были переселенцы-неудачники идущие в Сибирь по столыпинской реформе, но растерявшие в дороге казну, имущество, а то и здоровье. Были и такие, что запаздывали по весне, но стремясь быстрее встать на ноги, приращивали заработок к тем ссудам и путевым деньгам, что полагалось по закону. Старожилы платили щедро, и семья, отработав сезон, уходила навсегда, осваивала своё хозяйство. Так незаметно подкатил август четырнадцатого года с введением в империи военного положения, вступившей в войну с Австро-Венгрией и Германией. Страна забурлила патриотическим настроением, формировала полки запасников, призывала новобранцев. Среди городского населения появлялись добровольцы, которых называли вольноопределяющимися. Крестьянство же глухо молчало, особенно сибирское. Но скоро кровавый водоворот войны отрезвил многие головы, особенно после тяжелого поражения армии в Галиции. Отступая, она несла большие потери и требовала пополнение сил, вызывая недовольство основной питательной среды – крестьянства. Непопулярность войны породило массовое уклонение от призыва на фронт. Но разинутая пасть войны и не спрашивала желание хлеборобов драться, она поглощала их с помощью приказов и мобилизации. Вместе с тем в воюющей империи развернулось добровольное пожертвование средствами для нужд армии. Состоятельные купцы и заводчики бросали на алтарь победы крупные суммы, не остались в стороне помещики-землевладельцы и богатое крестьянство.
Заканчивался второй год войны. Подкрашенный сединой старшина Волосков собрал сход волости незадолго до жатвы хлебов. Двор волостной управы плотно заполнен молодыми и больше старшими мужиками. Сдержанные голоса переливались от одной группы к другой, люди делились новостями, видами на дальнейшее хозяйствование, сыпались упреки в адрес генералов, что не щадя гнали на смерть солдат. Волосков с тревогой в голосе рассказал о ходе боевых действий на фронтах, о разгроме Турецкой армии в Закавказье и резне армян турками. Только успешные действия русских остановили уничтожение древнейшего народа.
– Господа крестьяне, мы живём свободно, много трудимся. Сеем хлеба сколько можем, продаём – сколько желаем. Страна на военном положении. Армия разрослась до шести миллионов человек. Её надо кормить, а посевы сокращаются. Сбор хлеба падает. Поэтому правительство доводит до каждой волости разверстку по хлебу, мясу и другим видам продукции. Мы должны строго выполнять объём разверстки по твердым ценам. Просьба не скрывать пуды нового урожая, честно показать излишки от тех норм на продовольствие, какие установило правительство на период войны. Торговлю излишками никто не отменял.
– Ужели так плохо в стране с харчами? – раздался недоуменный голос из середины.
– Да, в некоторых губерниях введены продовольственные карточки, – ответил старшина. – Есть беженцы. Идут от голода в Сибирь.
– Довоевались, мама родная!
– Пущай идут, нам рабочие руки нужны.
– Наймёшь батрака, тебя быстро кулаком обзовут. А так мы все тут в категории зажиточных.
– Господа крестьяне, продолжим работу схода. Вот представитель от благотворительного общества. Дадим ему слово.
На крыльцо поднялся в городском костюме с приветливой улыбкой мужчина лет тридцати.
– Господа крестьяне, наша армия с переменными успехами отбивает натиск армий центральных государств. Средств на войну требуется много. Работают благотворительные общества, собирают деньги отовсюду. Не скупятся купечество, промышленники, ученые. Из этих средств наши общества выплачивают раненым солдатам и офицерам пособия. Сдавайте безвозмездно хлеб, лошадей.
– Напомню, – поддержал представителя старшина, – Евграф Нестарко, Степан Белянин, Серафим Куценко, Емельян Черняк, Прокоп Полымяк отправили своих сыновей по призыву вместе со строевыми лошадьми, и они теперь воюют в кавалерии на Юго-Западном фронте. Наши земляки стали участниками успешного прорыва фронта под командованием генерала Брусилова. Кто-нибудь желает сказать своё слово?
По сходу прошелестел невнятный говор. Никто не решился.
– Мы, лучше ответим делом на пашне, – всё же раздался уверенный голос.
– Ото!
Евграф и Степан переглянулись, польщённые вниманием старшины. Тут же поговорив меж собой, решили отправить в Карасук двух строевых рысаков в допомогу своим сыновьям.
– Пусть за нас воюет наш с тобой труд, Стёпа, а мы, с божьей помощью, нарастим поголовье.
– Не обеднеем, – поддержал друга Степан, – вернулись бы наши сыны в здравии.