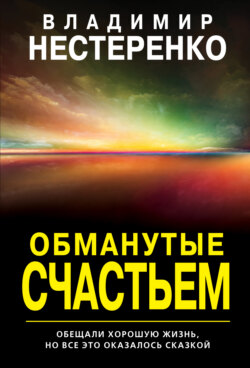Читать книгу Обманутые счастьем - Владимир Нестеренко - Страница 4
Часть первая
Радуга над пажитью
3
ОглавлениеИз Карасука за подводой Евграфа на привязи тянулись две коровы и бычок. Евграф сидел на бричке, свесив ноги, держа вожжи в руках, правил. Степан – рядом. Бричка катилась жестко по грунтовой изъезженной дороге, разбитой и изрезанной колеями в майские дожди и теперь торной и бугристой.
Иногда Евграф оборачивался, устремляя взгляд своих зорких небольших глаз на бычка, который тащился за коровами на длинной верёвке, кривил голову силясь сбросить с небольших рогов петлю, захлестнутую на морде, но она сжималась, больно давила, и он ускорял шаг, ослабляя натянутую верёвку, а заодно и петлю.
– Ось, дывись, какой упрямый, как людына, зараз получивший удар плетью, но всё одно с мыслями утечь из-под стражи.
– Так ведь неразумный.
– Одно слово – скот, на мясо только годится. Забьём, наши семьи объедятся. Хранить – места нема.
– Присолим, да за погреб давай возьмёмся. У нас тятька такой вырыл, что молоко в кринках неделю не киснет. Для мяса ледник устроил – сруб со льдом.
– Где ж теперь лёд пошукаешь?
– Нигде, но в глубоком погребе присолённое мясо долго хранится.
– Это я знаю, надо немедля браться. В две-то руки мы один швыдко зробим. Передохнём, та за другой возьмёмся.
Евграф улыбался своему соседу за его толковость и сговорчивость, за обоюдное ходкое дело под горячим июньским солнцем, а заодно этому степному разливу, с буйно встающим разнотравьем, ладного для скотского языка, для косы, что скоро засвистит по утренней росе. Ты будешь азартно махать ею, выстилая солидный слой на стерню. За тобой, под палящим в зените солнцем, пойдут бабы сгребать и ворошить духмяное сено. Ты уж и волокушу налаживаешь, да березовые хлысты подтянул, куда поставишь первый зарод на этой благодатной земле. Настроение солнечное. И он затянул низко на свой манер:
По за лугом зелененький,
По за лугом,
Брала вдова лён дребненький,
Она брала, выбирала,
Она бра-а-ла,
Тонкий голос подавала,
Тонкий голос подавала…
Голос Евграфа был приятный для слуха Степана, да к тому же вещал неизвестную ему песню. Но Евграф неожиданно потушил звуки в груди, вызвав возражение соседа.
– Славно ты начал, Граня, чего ж не продолжаешь, а загрустил?
– А не с чего спивать, Стёп! – вдруг нахмурился Евграф.
– Почему, всё с тобой справили, как хотели. Коровы наши молодые, удойные, будет теперь чем ребятишек кормить, куры яйцо дадут, цыплят выпарят, – Степан удивился перемене настроения друга.
– То-то и оно – ребятишек. С того и зажурывся. У тебя двое. Мальчишки погодки, как и у меня. Только на два годка старше. Сейчас лето, во времянках из горбыля наспех сколоченные наши семьи ютятся. Зима пожалует – куда? Она суровее покажется, чем дорога сюда через дикие просторы. Вот и мыслю – на толкучке лес пиленый, и кругляк есть. Приценялись мы, дюже не по карману, чтоб на хату купить, да за лето срубить избу, пережить, избыть худое время. Потом уж дом пятистенный добротный ставить. Однако дом срубить – не картуз на голову надеть.
– У меня об том же думка в сердце занозой сидит, – согласился Степан. – Сулили нам, как переселенцам, вона сколь лесу на корню дать.
– И дают, – нетерпеливо подхватил Евграф, – две сотни лесин, полсотни жердей. На баню и гумно отдельный счёт не малый. Только как взять такое богатство? Закрою очи – жуть берёт – сколько сил треба. А покос! Где те силы взять, когда у нас в карманах пусто, а жилы мы с тобой за май месяц потянули крепко, едва не лопнули от натуги?
– Только на себя надёжа. Покос через месяц, лес – в марте, по снегу готовить и трелевать.
– Пошто в марте, а не летом?
– Ты, парень, в скотине хорошо разбираешься, а я в плотницком и столярном деле. Тот лес, что мы смотрели – сухой. Взят он зимой, вымерзший, звонкий. Соку в нём нет – годится для постройки. Летом он живой, сочный, тяжёлый, как камень. Пока высохнет – год пройдёт и покоробит дугой вдобавок.
– Придётся нанимать мужиков.
– Давай посчитаем, сколько нам надо на дома, сколько на баню и гумно. Прикинем, осилим ли сами?
– Кабы опыт был.
– Дело не скорое, пообвыкнемся на новом месте, знающего мужика найдём. Справимся.
– Без надежи, Стёп, жить негоже, – Евграф вновь белозубо улыбнулся приятелю.
Они замолчали, каждый вдумываясь в будущее трудное дело. К тому же новое. Ни тот ни другой по своей молодости не рубили лес, не трелевали. Однако дух у них крепок, а желание морским прибоем бьётся о берег мечты зажиточной жизни. Как ни тяжка была дорога сюда с хворью ребятишек, а ни разу не покаялись, что кинулись в омут неизвестности и победили – застолбили свои щедрые наделы, и не щадя себя, свои силы, пустились не рысью, а намётом обустраиваться.
Неотложно было все: изба-времянка, колодец на меже на двоих, ибо речка в версте, воду на коромысле не натаскаешься. Для себя можно, а для огорода с овощными грядками? Измочалила мужиков донельзя вспашка целика под огород и под зерновые. Ни плуги, ни бороны, ни тягло не годились справно пахать крепкую, увязанную корнями разнотравья, землю. Всюду пырей лежал пластом золотистого цвета, прошитый зеленью новых побегов. Подняли – стебли в пояс. Опахали деляны да подпалили. Загудело пламя на ветру, устрашило своей силой. И погнали, считай без передыху, полторы недели. Не отощавшие, но все равно не успевшие как следует поправиться от тяжкой дороги, лошади тянули плохо, ложились в борозду. А сами-то мужики не лучше коней, тоже падали.
– Шкура живота, – шутил Евграф, – к позвонку прилипает от тех харчей, что нам жинки готовят. Без коров-кормилиц, глядишь, ноги протянем скоро.
И вот с грехом пополам, не лучшим образом, отсеялись и, вытребовав вторую ссуду[2], взяв как бы передышку, возвращаются домой с кормилицами.
Солнце уж скатывалось за степь, к далекой зубчатой кромке леса, но хорошо пригревало широкие, как столешница, спины мужикам через изрядно пропитанные потом и слинявшие ситцевые рубахи. Над их головами кружился первый жидкий комариный султан. Иногда народившееся комарьё опускалось ниже, зудило, и тогда Евграф понукал мерина, он переходил на крупный шаг, не перерастая в рысь, и гнус отставал. Дышалось ровно, легко. Иногда от близкой речки легким дуновением приносило последние медвяные запахи цветущей черёмухи, дикой яблони, рябины, и тогда вспоминались белопенные сады на их батьковщине.
Евграф неожиданно, как в первый раз затянул прерванную песню сочным грудным голосом. Она лилась в степь туда, где Василько косил сено и перекликался звонким голосом с вдовою. И бросив косу, пошёл до дому просить мать:
Дозволь, мати, вдову взяти,
Тоди будем пить-гуляти.
Не дозволю вдову взяти,
Вдова вмие чарувати.
Зчарувала мужа свого,
Причарует сына мого.
Евграф оборвал песню и, как продолжение, молвил:
– Вот и нам бы не попасть на чаруватый глаз. Обождём в поле близ хутора, пока светило за лес упадёт, чтоб, не дай Боже, наши денежки не заплакали.
– Бережёного Бог бережёт, – согласился Степан, – кто знает, какие люди за оврагом сели.
На усадьбу въехали с задов, низиной, чтоб не маячить на косогоре при садившемся за далекие леса солнце. Северный прохладный ветерок и во благо, сдувал гнус, лохматил мужикам непокрытые картузами головы. Осторожничали, кабы кто не увидел с худым глазом коров, не зчарувал, не присушил молоко. Новых поселенцев, что приживаются на той стороне балки, знали плохо. За большой занятостью к ним на усадьбы не ходили. Да что там и делать, не шибко справные люди, многодетные, крикливые. Не раз уже прибегали просить то воды из колодца, её не жалко, бери, то за инструментом плотницким к Степану. Он давал попользоваться только дважды. Самому постоянно нужен.
Едва мерин остановился, приятели быстро, словно крали, отвязали от подводы коров и торопливо пошли к своим избам-времянкам, под стену, где с кусочками хлеба, с вёдрами воды и подойниками терпеливо ожидали их жёны.
– Принимай, Одарка, нашу кормилицу-Милку.
Евграф передал коровий повод жене, перекрестился. Та подставила корове ведро с пойлом. Милка охотно шагнула навстречу, погрузила морду в ведро и принялась жадно пить, шумно втягивая воду. Оторвалась от ведра, роняя капли с губ, захватила шершавым языком кусочек хлеба с протянутой руки. Одарка погладила корову по шее, по левому боку и тоже перекрестившись, шепча молитву, подставила под себя низкий стульчик, опустилась на него. Умело смахнула мокрой тряпкой пыль с вымя, налитого молоком, и первые густые струйки цвиркнули в кленовый подойник, словно долгожданная музыка.
Из времянки выкатился старший сынишка Иван, уставился на стоящего отца, который подался к нему, вытаскивая из кармана шаровар сахарного петушка, завернутого в желтую бумагу. Следом раздался панический плачь Коленьки. Отец заторопился угостить гостинцем младшенького. Мальчики сунули в рот гостинец от зайчика, успокоились. Отец увел их в хату, тут же вернулся с кружкой, чтобы отведать парного молока, определить его вкус и жирность.
– Не прогадал, Одарка, не прогадал! – весело сказал Евграф, с наслаждением отпивая из кружки парное, пенистое молоко.
Едва солнце вынырнуло из ночного сна, раскидав по высоким перистым облакам ожерелье зари, скользнуло первыми лучами по изумрудной дали лугов, расплываясь разливным июньским светом, предвещая погожий, жаркий день, Евграф – на ногах. Пока свежо. Он в зипуне. Подхватил вилы, косу, взгромоздив на правое плечо, и широким шагом двинулся через свою усадьбу на луг, где стреноженные паслись его и Степана лошади. За ним поспешал Белянин.
– Добре ночевал, Стёпа? – оглянулся на соседа Евграф, услышав сзади шаги.
– Без снов, как убитый, – Степан тоже нёс вилы и косу. Мужикам надо накосить травы для коров и бычка, пока не решится дело с выпасом в общем поселенческом стаде. К тому же забой бычка решили отложить, пока не будут вырыты погреба. А они нужны позарез, где бы хранить в кринках остатки молоко от завтраков и обедов. Судя по первому удою, коровы – ведёрницы. Будет на столе и масло сливочное, и творог. А с ними – вареники, ватрушки всеми любимые. Только стряпай!
Кринок маловато. Всего по две в семье, купленные вчера на ярмарке. И Одарка и Наталья охают: сколько всего надобно! Приехали сюда, можно сказать, с пустыми руками, меняя в долгой дороге на хлеб свой скарб. Да и того было – кот наплакал. Кое-какая посуда, одежка, постель остались. Пополнять надо домашнюю утварь. А на что? Мужья их по-иному смотрят – чтоб дом срубить. Прежде – основа из камней и глины требуется, фундамент, как говорят теперь, да лес. Вот и стараются мужики под своё хозяйство тот самый фундамент подвести. Первая ссуда в тридцать целковых и путевые ушли на избы[3], которые потом сгодятся вместо сарая, на кое-какую утварь, на семена пшеницы, картофеля, кукурузы, подсолнечника. Правда, семена овощей со своей родины привезли, посадили, но и местные районированные для сибирских условий, тоже использовали. Успели все же запахать десятину целика вместе с приусадебным огородом, разбить его боронами, посеять пшеницу, овёс, посадить картошку и всё другое для себя, не на продажу покуда. Так ведь и кормиться на что-то надо. Пластаются от зори до зори, без сытного стола – упадут. Куль муки уж доедают. Вторая ссуда ушла на корову, основу хозяйства. Хотя главная основа – мужья.
Одарка встала с постели спозаранку. Квашня у неё на хмельной опаре подошла. Пирогов со щавелем напечь собралась. Муж сам печку-голландку в избе клал. Малая, всего на три колодца, правда, топка большая с тем расчётом, чтобы варить на ней в чугунках щи да галушки, печь блины, да оладьи, а в топке, на углях, вроде русской – караваи небольшие да сдобу на противне. Приноровилась Одарка, науку свою Наталье передала. Той почти не приходилось в девках, да при свекре, выкатывать да печь хлеба. Сыр из козьего и конского молока, сказывала, умеет варить. Мечтает и тут коз купить, сыром мужа и детей кормить. Хорош он для лета, сытный, долго лежать может. Да только не залежится. У мужей аппетит богатырский. Постные пока супы, сдобренные подсолнечным маслом, швыркают.
Одарка подбила тесто, подхватила подойник и – к Милке. Доит и радуется: скоро сметанка на столе появится, потом маслице. Сытнее станет еда, куда с добром! Милка стоит смирно, лениво пожевывая жвачку.
Мужики косили размашисто и широко густое разнотравье, пока не шибко высокое – в полколена. Через месяц не протащишь вот так легко косу, хоть и плечи у обоих могучие. Разрастётся, загустеет.
– Десятина покоса, что прилегает к пашне меж перелесками, – сказал Степан, пройдя прокос и возвращаясь, чтобы зачать второй, – даст сена на корову. Как думаешь, Граня?
– Сбудется, – ответил тот, – вторая десятина – на лошадей. Коси только, готовь.
– У нас покосы не беднее, только наделы малы. И чёрте где от хутора.
– Такая же картина на черниговщине. Народу там шибко много, хотя просторы немалые. В лесах угодья. Сколько мы с тобой вчера покрыли, а ни одного хутора[4]. У нас они скрось. Однако гарные земли у помещиков так и остались. Тут же больше казённые земли и никаких помещиков не водилось.
– Чудно, однако. Одна страна, а условия разные.
– Я вот что подумал, Стёпа, коль тут покосы и выпаса глазом не окинуть, не тронуты, надо нам больше на скот налегать, масло бить, на ярмарке торговать, а то и оптом. Потому конную косилку справлять треба.
– Приходилось мне тому купцу, у кого жили зимой с Натальей, маслобойку делать, да не одну. Вот ведь фокус какой. Он молоко скупал, и масло бил справно.
– Я как в воду гляжу! Надо нам обмозговать сию меру, та в две руки взяться, а?
– Посмотрим. Лошадей бы надо тоже разводить, с ними хлопот меньше. Выпаса рядом с хутором, а сена на зиму наготовим.
– Я гляжу, Степа, ты незлобивый, я таких хлопцев дюже уважаю. Завистливых да лукавых не терплю, дружбу с такими не вожу. Был у нас в батарее один такой, через койку от меня спал. Так я наслушался от него такую хулу на своих батарейцев и командиров, диву даёшься. Я от него сторонкой, так он кобелился, лаял, как цепной пес, поносил меня и других, сексотничал командирам. Дело дошло до того, что тёмную ему сыграли ночью в казарме. Отбили почку. Списали гадкого.
– Да и ты подходящий для меня, Евграф, – серьезно и без рисовки сказал Степан. – Ни глаза, ни душу от меня не прячешь. А на чужбине крепкое и надежное плечо жизни стоит, как в солдатском окопе.
– Угадал под яблочко. Добрый сосед – как хлеба сусек. Ужо пошли дальше, – Евграф оправил бруском косу, передал напарнику и размашисто замахал первым. За ним, после оправки косы не отставая, гнал Степан.
Трава ложилась с хрустом ровной волной, росистая, сочная, крепила дух мужиков своим богатством, и оба они уверялись в плодовитости сих дол и успешности зародившейся мысли. Имелось тут всё: руки, ноги, не дурная голова, широкая душа с жадным желанием плодотворного труда, надёжное плечо и эти вольные просторы, да покладистая власть, правда, не всегда расторопная. Во всяком случае, на первых порах поддержала спадающие переселенческие штаны, хоть и не в той силе, какой бы хотелось, но все-таки.
После завтрака горячими пирогами со щавелем, чёрным кирпичным чаем, говорят китайским, с томлёным собственным молоком, Евграф бодро поднялся из-за стола из хорошо оструганных осиновых досок, что сработал в первый же день как поставил времянку на своей усадьбе. До этого обе семьи ютились в огромной палатке с перегородками из холста, обогреваемые железными печками. Палатку выдали в волостной управе временно, как остро нуждающимся семьям в крове.
– Со своим молоком пироги и чай слаще, – дал оценку завтраку Евграф. – Пора браться за погреб.
Но сразу взяться не удалось. Только настроился, разметил, где копать, тут случился верховой. Мужик, сжимая в руке плеть, буйволом пёр по усадьбе прямиком к Евграфу. Тот удивился запальчивости мужика в шароварах и расписной косоворотке.
– Ты, брат, будешь Евграф? – запыхавшись от быстрой езды, выдохнул мужик.
– Ну, я!
– Пособи, брат, беде! Слыхал, врачуешь скот.
– Тю, напужал трошки своим видом и кнутом. Что за беда?
– Нетель вздуло. Лежит лёжкой. Пособи, за ради Христа!
Подошёл Степан, прислушался к разговору. Глянул на мужика неодобрительно. Какой-то пружинистый, растрепанный, в бороде шерсть бурая.
– Не просто это, знать бы что случилось? – хмыкнул Евграф, – мы тут со Степаном зараз погреб сгоношились копать. Упущенное время не купишь.
– Пособишь, я тебе пособлю копать, аль ещё чего зроблю.
– Ладно, где твоя нетель? – Евграф извинительно глянул на Степана, тот развёл руками, мол, никуда не денешься.
– В моём базу, недалеко от волостной конторы. Мы верхом быстро добежим. Седай в седло ты, я за подпругу ухвачусь. Побежали!
Баз Емельяна Черняка был частично обустроен. Поселился здесь он прошлой весной. Стояла времянка на задворках, рядом добротный сарай из кругляка с высоким сеновалом, крытый тёсом. Загон из жердей, баня. В штабеле ошкуренные брёвна для постройки дома. Зеленел грядками огород. Кое-где всходил картофель, пыжились ряды подсолнечника. С краю виднелся колодец с журавлём.
Хозяин торопливо повёл Евграфа к загону, где запрокинув голову, лежала породистая пестрая нетель со вспученным животом, учащенно дышала. Евграф остановился, ощупал уши, холодные, надавил несколько раз на вздувшийся живот. Тёлка пыталась отрыгнуть, но не смогла, лишь на губах показалась молочная пена.
– Никак объелась?
– Слупила полмешка ячменя.
– Тю, – Евграф присвистнул. – Давай верёвку и дёготь, если есть, – а сам, проводив глазами хозяина в сарай, разжал тёлке челюсти, стал вытягивать скользкий, облитый пеной язык. Телка снова пыталась, но безуспешно, отрыгнуть. Торопливо появился Емельян.
– Надавливай ей на рубец, знаешь, где? Нет. Дави на брюхо, а я язык достану, вытягивать буду, чтоб отрыгнула, продышалась. Подпёрло ей изнутри набрякшим зерном под легкие, под сердце, не даёт дышать. – Евграф завёл смоченную дёгтем верёвку как узду в рот, шоркая ею туда-сюда, а сам коленом давил на живот. Тёлка взбрыкнула, пытаясь встать, и первый раз тяжело вздохнула, растянулась, брыкая ногами, выгнула спину.
– Литр подсолнечного масла есть? – Емельян утвердительно мотнул головой, – живо сюда тащи!
Емельян, увидев выскочившую из времянки жену, крикнул:
– Маня, тащи швыдко баклагу с маслом, – и пояснил, – в ней осталось литра полтора.
– Бутылка стеклянная есть? Баклага несподручная. И лейку бы!
Емельян рысцой бросился в сарай, выскочил оттуда с бутылкой в руках, и тут же подкатила его жена босиком, в длинной юбке, с перекошенным от отчаяния лицом. Сзади топталась молодая и грудастая вдовая – сестра хозяина в синем, поношенном сарафане, бросая пытливый взгляд на могучего лекаря, обжигая его чернотой глаз.
– Лейки нет, – и протянул квадратную литровую бутылку с остатками самогона.
– Будем наливать в бутылку масло, та животине в горло, чтоб пронесло, если не опоздали.
Бабы горестно всплеснули руками.
– Ой, тошно, тошнёхонько! Золотыми червонцами куплена на племя!
С грехом пополам всё масло, что было в баклаге, влили тёлке. Стали ждать.
– Полчаса жди. Если не опростается, прирежь. Мясо съедобное. Я теперь тут не помощник, пойду, – сказал Евграф, – не лови больше ворон.
– Дальше как, если оклемается?
– Смотреть надо. Не корми сутки. Потом понемногу сена давай, соли в литре воды раствори три ложки, выпои.
Евграф хотел посоветовать сделать настой из горькой полыни и поить. Да махнул рукой. Самому наблюдать за нетелью недосуг, а похмельного дурака учить, он учуял сивушный перегар изо рта мужика, – что мертвых лечить. Повернулся и пошёл восвояси, провожаемый жадными глазами вдовицы, не подозревая о волнительных последствиях.
Часа через два хмельной Емельян явился к Нестарко.
– Брат, дюже рад, спас нетель. Опросталась, встала. Я тебе пособить прибежал.
– Ладно, мы уж до глины дошли в две руки. Хороша глина. Пригодится.
Как бы в подтверждение его слов, из хаты вышла Одарка с ведром, набрала в него глины.
– Пол затру пока солнышко, высохнет быстро, а ты за хлопцами посмотри, пусть гуляют.
– Добре, – откликнулся Евграф.
Одарка вывела во двор детей, развела в ведре глину, будто сметану, смела с земляного пола травяной сор, и с переднего угла, где на треугольной полочке стояла икона в рамке с Божьей матерью и мальчиком Иисусом, принялась наносить глину ладонью. В избе два топчана для детей и их супружеский, у окна стол с лавкой, напротив – белеет свежей известью печка, на стене полки для посуды. Они пахли сосновой смолой. Дальше сундук с бельем, мешок с мукой, баклага с маслом и бочонок с колодезной водой. У двери деревянная вешалка для одежды. Два табурета Одарка взгромоздила, перевернув на лавку, чтоб не мешали затирке. Работала быстро. Немного испачкала юбку, поднятую выше колен и подвязанную поясом. Не жалко, юбка повседневная, сполоснёт. Кипяток в чане стоит на плите. Вот и дверь. Одарка разогнула спину, глянула на свою ладную работу, улыбнулась. Дело привычное, знакомое. Распахнула двери в комнату, отворила дверь сеней. Пусть проветривается комната, сохнет пол. Ушла к колодцу, глянув на детей, которые ворковали возле отца.
Солнце припекало. Стоял штиль. Мужики, сбросив с плеч рубахи, лоснясь бронзовым загаром спин, сели на перекур, скрутили цигарки, задымили.
– Как же тёлка объелась? – спросил Евграф.
– Трошки перебрали мы с брательником Федором на его именинах. Глашка, сестра, коров с бычком в стадо угнала, а тёлку, второй день, как куплена на племя, оставила на базу, не доглядела.
– Ну, да – кто-то всегда виноват, но не ты сам, – рассмеялся Евграф, бросая на Емелю колючий взгляд своих орлиных глаз, – откуда обо мне узнал?
– Так уж врачевал коня землемера. Вот молва и пошла по людям.
– Ты, Емеля, сам лес на дом готовил, или нанимал кого? – спросил Степан.
– Сам, с брательником и старшим его парубком. Половину только выбрали, на его деляну перешли.
– Раньше лес рубил?
– Нет, в степях жил. Без сноровки чуть лесиной не пришибло. Приноровились, пошло дело. Вижу, у вас погреб перекрыть нечем, тонкомер у хаты. Так я тебе дам за услугу лесу.
– Добре, не откажусь. Вечером на телеге прибегу.
– Прибегай. Ты меня выручил – я тебя выручу. Так и будем крутиться колесом.
Емельян ушёл, косолапо и нетвердо топча землю.
Яму под погреб вырыли глубокую, вместительную. Остановились, когда с глиной стал проскальзывать влажный песок. Побоялись весенней сырости. Весна только что отошла, поцеловавшись теплыми последними майскими грозовыми днями с летом, показывала, что опасения мужиков не напрасны. Колодец, что вырыт на межевой низине на четвертом метре обводнился. Дойдя до пятого метра, вода пошла обильная. Решили пока оставить так. Осенью вода упадёт. Вот тогда и углубят. Сруб сшили из лиственницы, в сыром месте, в воде – вечный.
– До ужина, Стёпа, давай сбегаем к Емеле пока не передумал, заберём брёвна.
– Резон. Пойду за Гнедым, покуда ты тут с упряжью.
– Топай, упряжь на телеге справная.
Баз у Емельяна обнесен жердями, ворота тесовые. Распахнул их сам хозяин, завидев подъехавших мужиков. Он протрезвел, был хмур, видно от утренней несуразицы и щедрости. Ну, коль сулился, слово надо держать.
Проезжая мимо хаты, Евграф увидел уставившуюся в окно Глашу – улыбчивую, глазастую. Вот она выкатилась на низкое крыльцо, приветливо машет рукой.
– Спасибочки лекарю за нетель, оклемалась! – сказала она нараспев сочным, грудным голосом, кланяясь.
– Доброму слову – добрый ответ, – охотно откликнулся Евграф, сверкая острыми глазами.
– Ты бы, Глашка, не путалась под ногами, – Емельян проворчал грозовой тучей. – Люди по делу ко мне, им недосуг лясы с тобой точить.
– Не ворчи кобелём. Я, как ветер, только слова вслед кидаю.
– Ты не прочь и себя кинуть под ноги мужику, скройся с глаз, – пропуская вперед приехавших, все так же хмуро бросил Емеля, только не громко. Но вдова вскинула гордо голову, подбоченилась, выпирая вперед грудь, осталась на крыльце.
Емельян махнул на неё рукой, зная каприз сестры, крикнул:
– Правь, Евграф, вон к тем хлыстам, что рядом со штабелем. Они у меня на всё прочее. Грузим три бревна.
– Погоди, Емельян, гляну на тёлку.
Мужики прошли к загону, где под небольшим навесом стояла на привязи утренняя проказница. Евграф ощупал ей живот, кулаком вдавил. Тёлка качнулась слегка, кося глазом на человека, медленно жуя.
– Добре, жвачку не потеряла. Вижу, солью поил. Утречком сенца немного дай, посмотри, возьмёт ли? С вечеру запарь горькой полыни пучок в литре кипятка. Выпои.
– Телиться будет?
– Куда ж она от природы денется. Только веди в охоту к хорошему быку. Есть такие?
– Есть. Целковый хозяин берёт.
– Не скупись, у тебя животина добрая. Пусть и приплод добрый принесёт.
Мужики вернулись к подводе, погрузили три хлыста в восемь аршин, и Евграф тронул лошадь на выход, мимо стоящей на крыльце Глаши, с лукавой улыбкой на пухлых малиновых губах. Она вынула из-под блузки платочёк и помахала мужикам вслед. Евграф оглянулся. Она отправила воздушный поцелуй, явно ему предназначенный, но скорее всего не за тёлку.
«Вот холера, – ругнул Евграф про себя вдову. Посмотрел, смущаясь, на соседа, подумал: – видел ли Стёпа выкрутасы Глаши, как бы под пятку не попасть?»
2
В годы переселения крестьянских семей в Сибирь начавшееся в конце девятнадцатого столетия все ссуды были беспроцентные. Начало гашения через пять лет до десяти лет в равных долях. Часто, особенно в годы Столыпинской земельной реформы ссуды гасились казной, если крестьянин быстро вставал на ноги и давал хлеб, мясо, масло, шкуры. В Томском переселенческом районе в год начала массового прихода крестьян на семью выдано в среднем около 40–60 рублей. По мере увеличения числа переселенцев размер ссуд возрастал. В 1907 году в Томской губернии выдано более одиннадцати тысяч ссуд почти на полмиллиона рублей. Всего переселенцам в российскую Азию выдано в этот год кредитов на 5, 5 млн. рублей на домообзаведение, 380 тысяч на общественные надобности и 75 тыс. рублей путевые. Кредитование не останавливалось даже в годы войны. Так соответственно за период с 1906 по 1915 год выдано ссуд по первой категории более чем на 78 млн. рублей; по второй на 9 млн.; по третьей – на полтора миллиона рублей.
3
В сталинские годы крестьянам выдавались ссуды для строительства жилья под два проц. годовых, начало гашения через год в течение пяти лет. Практиковался способ выдачи построенного жилья за счет этой ссуды. В постсталинское время предприятиями выдавался кредит (рассрочка на несколько месяцев) на приобретение одежды, мебели, холодильников, мотоциклов и прочее. В период реставрации бандитского олигархического капитализма фермерам первоначально выдавали одноразовую ссуду по 500 тысяч рублей под 8 процентов на три года, начало гашения начиналось с момента получения денег. Инфляция быстро съедала эту ссуду. Получить новую на приобретение ГСМ, техники, семян было весьма трудно, в чем убедился автор, работая в течение одиннадцати лет фермером. И только, спустя около двадцати лет, фермеры стали получать ссуды сравнительно проще, заработали гранты.
4
Малолюдная Сибирь постепенно заселялась. Ежегодно на переселенческих пунктах насчитывалось до 300 тысяч человек, которые расселялись в Сибири и Дальнем Востоке. Только при Столыпине, когда были внедрены переселенческие поезда, переехало 2500 тысяч человек. А в целом до революций азиатский край пополнился более чем на пять миллионов человек.