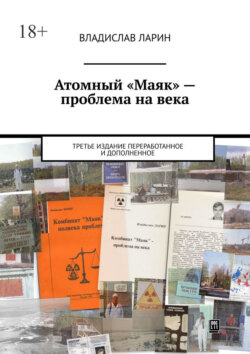Читать книгу Атомный «Маяк» – проблема на века. Третье издание переработанное и дополненное - Vladislav Larin - Страница 16
Глава 2. Три радиационные катастрофы на комбинате «Маяк»
2.2. Сброс радиоактивных отходов в реку Течу
Оглавление2.2.1. Опасная спешка с выделением первого плутония
Пуск первого реактора-наработчика и все работы, связанные с выделением плутония для первых атомных бомб, велись в условиях ни с чем несравнимой спешки. Экологическая опасность, связанная со всеми этапами ядерного цикла, не учитывалась или отодвигалась на задний план. К тому времени ученые уже располагали достаточными доказательствами опасности продуктов радиоактивного распада для живых организмов. Но, выполняя директиву партии и правительства – создать в кратчайшие сроки атомное оружие, специалисты-атомщики не смогли или не успели вовремя создать надлежащие средства радиационной защиты как для персонала комбината «Маяк», так и для населения региона.
После того, как в декабре 1948 г. первые облучённые в реакторе урановые «блочки» поступили на радиохимический завод для выделения плутония-239, начался постоянно возрастающий сброс жидких радиоактивных отходов в реку Течу. Как уже говорилось, технология выделения плутония требовала огромного количества опасных химических веществ и соединений – кислот, солей и щелочей. Кроме того, для этого было необходимо очень много воды. После прохождения технологического цикла, насыщенная токсичными и радиоактивными веществами вода сбрасывалась в окружающую среду. А точнее – в реку Течу и близлежащие естественные водоёмы.
Ставя целью подробно рассмотреть воздействие радиации на здоровье персонала и жителей региона, мы не будем останавливаться на влиянии опасных химических нерадиоактивных отходов атомного производства на здоровье людей – это может составить тему отдельного, не менее интересного исследования.
Несмотря на кажущееся обилие публикаций, посвящённых проблеме сброса жидких высокоактивных отходов «Маяка» в речную систему региона, подавляющее большинство из них базируется на данных, приведенных в небольшой книге «Радиоактивное загрязнение окружающей среды в регионе Южного Урала и его влияние на здоровье населения», написанной группой авторов из исследовательских подразделений «Маяка», «ФИБ-4» и «ОНИС», ряда других научно-исследовательских институтов и опубликованной в 1991 г. «Центральным научно-исследовательским институтом информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике» («ЦНИИАтоминформ»). Именно в ней наиболее полно и подробно рассматриваются факты, накопленные исследовательскими коллективами за долгие годы работы.
С первых дней работы комбината «Маяк» высокоактивные отходы (с активностью более 1 Ки/л) собирались в металлических «банках» емкостью примерно 250 куб. м, одна из которых взорвалась 29 сентября 1957 г. Среднеактивные отходы (с активностью от 1 до 0,003 Ки/л) и низкоактивные отходы (с активностью менее 0,003 Ки/л) в течение долгого времени сбрасывались в реку Течу. Сейчас, в результате деятельности комбината «Маяк», гидрографическая сеть региона заметно изменилась. А в первые годы существования предприятия река Теча брала начало в озере Кызылташ. Через 240 км она впадала в реку Исеть. Далее вода, пришедшая с «Маяка», поступала в реку Тобол, впадающую затем в реку Иртыш. А оттуда – в реку Обь, несущую свои воды в Северный Ледовитый океан. Вся эта речная система, протяженностью около 1.000 км, в большей или меньшей степени подверглась радиоактивному загрязнению (Аклеев и др. 1991-а).
Воздействие радиации уменьшалось по мере удаления от места сброса, поэтому количество людей, реально получивших опасную с медицинской точки зрения дозу внешнего и внутреннего облучения, оценивается в 28 тыс. человек. Наиболее пострадали жители деревень, расположенных по берегам реки Течи. Также была загрязнена радиоактивностью вся речная экосистема в пределах Челябинской и Курганской областей. Благодаря осаждению большей части радионуклидов в донных осадках реки Течи, низовья этой речной системы в меньшей степени пострадали от происходивших катастроф. Но из-за высокой активности донных осадков, ниже по течению реки постоянно сохраняется радиационная опасность. В результате естественных или антропогенных процессов эта радиоактивность может быть поднята из осадков и повторно включиться в круговорот веществ.
2.2.2. Катастрофа длиной в двадцать один месяц
Итак, не имея возможности собирать и очищать все жидкие радиоактивные отходы, руководство комбината «Маяк» до 1956 г. предписывало соответствующим службам сбрасывать их в реку Течу. Основная масса ЖРАО – примерно 95% – поступила в речную систему с марта 1950 г. по ноябрь 1951 г. Всего, согласно экспертным оценкам, с 1949 по 1956 гг. было сброшено не менее 76 млн. куб. м жидких высокоактивных отходов, суммарная активность которых приблизительно оценивается в 2,86 млн. Ки (Радиационно-экологическая обстановка…, 1991; Отчет о состоянии экологической безопасности, 1997). Следует помнить, что все данные о радиоактивных выбросах «Маяка» носят расчётный характер на основании сведений об объёмах производственной деятельности предприятия. Измерения выбросов радиоактивности не производились. Расчётные данные о динамики сброса высокоактивных ЖРАО в речную сеть представлены в Таблице 2.1.
Следует обратить внимание на некоторые расхождения в оценках разных авторов причин сброса жидких высокоактивных отходов в речную систему региона. Большинство сходятся на том, что эти сбросы были вызваны спешкой и отсутствием надежной системы накопления ЖРАО для длительного хранения. Однако, один из ветеранов плутониевого производства – А. К. Круглов пишет в своих воспоминаниях несколько иное. Работавшая на «Маяке», согласно решению ПГУ, специальная комиссия, возглавляемая А. П. Александровым, установила, что «значительная часть сбросов, содержащих большое количество радионуклидов, в открытые водоемы не предусматривалась технологическим процессом, они были аварийными» (Круглов, 1993). Но тогда возникает вопрос: а куда предполагалось сбрасывать высокоактивные ЖРАО согласно технологической схеме? Так что это объяснение представляется попыткой снять с руководителей предприятия ответственность за то, что в настоящее время вполне может трактоваться как «преступная халатность» при организации производства.
Каковы бы ни были причины, среднесуточный сброс радиоактивности в этот период составлял примерно 4.300 Ки при следующем составе радионуклидов в сточных водах: Sr-89 (8,8%); Sr-90 (11,6%); Cs-137 (12,2%); Zr-95 и Nb-95 (13,6%); Ru-103 и Ru-106 (25,9%); изотопы редкоземельных элементов – 26,8% (сумма процентов может несколько отличаться от 100 по причине округления данных) (Дегтева и др., 1992). Около четверти суммарной сбрасываемой активности приходилось на долю долгоживущих радионуклидов: Sr-90 (период полураспада 28 лет) и Cs-137 (период полураспада 30 лет) (Аклеев и др. 1991-а).
Следует помнить, что жившие по берегам реки Течи люди ничего не знали о грозящей им опасности даже в период наибольшего сброса ЖРАО в речную сеть региона. Они не получали никаких предупреждений со стороны местных властей и руководства комбината «Маяк». А вода в реке не имела привычных признаков загрязнения – её цвет, вкус и запах оставались неизменными, поэтому местные жители без ограничений использовали её в пищу и для хозяйственных нужд.
К началу радиоактивного загрязнения реки Течи на её берегах находилось 38 сельских населенных пунктов. Преимущественно это были деревни, только административный центр района – поселок Бродокалмак имел население примерно 5 тыс. человек. Жители прибрежных деревень подвергались как внешнему облучению за счет повышенного гамма-фона вблизи реки, так и внутреннему облучению от смеси радионуклидов, поступавших в организм с пищей и водой (Аклеев и др. 1991-а).
В наиболее тяжёлом положении оказались жители прибрежных населенных пунктов реки Течи, первыми принимавшие на себя радиационное загрязнение с «Маяка». В реке Исеть концентрация радионуклидов была уже в 10 раз ниже, вследствие разбавления чистой водой. В реке Тобол концентрация радиоактивных элементов была уже в 100—1000 раз ниже по сравнению с рекой Течей.
Положение жителей прибрежных деревень осложнялось ещё и тем, что практически вся потребляемая вода забиралась из реки. Колодцев в деревнях было мало и вкус воды в них был хуже, чем у речной. Кроме того, речная вода использовалась для всех хозяйственных нужд – для рыбной ловли, разведения водоплавающей птицы, полива огородов, водопоя скота, для купания и стирки (Аклеев и др. 1991-а).
Реконструированные уровни загрязнения воды в Метлинском пруду, находящемся в верховьях реки Течи, на берегу которого располагалась деревня Метлино, в 1951 г. в 2—3 тыс. раз превышали допустимые значения концентрации по Sr-90 и в 100 раз по Cs-137 и Sr-89. Мощность гамма-фона на берегу этого водоёма достигала местами 5 Р/час (по современным нормам нахождение в этом месте в течение одного часа даёт человеку пожизненную дозу облучения), на приусадебных участках – 3,5 Р/час, на улицах и в домах 0,01 – 0,015 Р/час (Аклеев и др. 1991-а).
После прекращения в 1952 г. сброса в реку радиоактивных отходов с высокими уровнями активности, произошло заметное снижение мощности доз гамма-излучения (до 50 мР/ч возле воды и до 0,6 мР/ч на территории деревни Метлино). Дальнейшее снижение мощности экспозиционных доз происходило значительно медленнее. Это объясняется тем, что после распада короткоживущих радионуклидов, радиоактивное загрязнение прибрежной полосы было обусловлено главным образом долгоживущим Cs-137. Сбрасываемые с жидкими отходами радионуклиды частично просто оседали на дно водоема, частично сорбировались донными отложениями и поглощались биомассой водных растений. Поэтому принято считать, что основная масса радиоактивности задержалась в донных осадках верхнего участка реки, а ниже по течению концентрация радионуклидов в воде резко уменьшилась (Аклеев и др. 1991-а).
2.2.3. Запоздалые предосторожности
В конце 1951 г., когда прошел угар, связанный с изготовлением первых атомных взрывных устройств и вопрос «получится – не получится» был однозначно решен, работа комбината «Маяк» стала более размеренной. После этого появилась возможность осмотреться и заняться наведением порядка внутри промзоны и вокруг неё. Проведённые замеры показали очень высокий уровень радиоактивного загрязнения окружающей среды и особенно реки Течи.
В первую очередь, с конца 1951 г., был значительно ограничен сброс высокоактивных отходов в реку Течу. Местному населению официально было запрещено использовать её воду для питья и хозяйственных нужд. Но как этот запрет можно было выполнить – непонятно. Одновременно с этим произошло частичное отселение жителей деревни Метлино, проживавших в наиболее неблагоприятных условиях – на берегу одноимённого Метлинского пруда, служившего накопителем для высокоактивных ЖРАО в верховьях реки Течи (Аклеев и др. 1991-а).
Согласно частному сообщению координатора энергетического департамента Greenpeace Россия В. А. Чупрова, неизвестна судьба людей, вывезенных в 1951 г. вертолётами из наиболее загрязненной части деревни Метлино. Разумеется, цинично рассуждая, они представляли научный интерес как люди, длительное время жившие в условиях, приближенных к условиям выживания после атаки с применением атомного оружия. Фактически, они стали первыми жертвами советского атомного оружия – которое к тому времени даже не было создано. Их могли поселить где-то изолированно и производить наблюдения за их состоянием. Если это действительно так, то рано или поздно появятся материалы этих исследований – они будут уникальными.
Несмотря на сокращение сбросов, содержание радиоактивных веществ в воде реки Течи продолжало оставаться на недопустимо высоком уровне. Поэтому было принято решение о перекрытии заболоченных верховьев реки плотиной. В 1956 г. такая плотина была построена, однако ожидаемого эффекта она не дала, поскольку в те годы основное загрязнение речной воды радионуклидами происходило за счет выхода долгоживущих радионуклидов из донных отложений в результате естественных гидрографических и антропогенных процессов. Происходило так называемое «вторичное» загрязнение. Пришлось строить ещё одну плотину, которая в 1963 г. практически полностью изолировала водоёмы, окружающие комбинат «Маяк» и загрязнённую радиоактивностью заболоченную пойму верховьев реки Течи от менее загрязнённых участков реки ниже по течению (Аклеев и др. 1991-а). Таким образом предпринимались попытки «законсервировать» накопленную в донных отложениях радиоактивность и ждать, пока произойдет естественное снижение уровня активности.
Кроме этого, часть пойменных земель – около 80 кв. км, где раньше были пастбища и сенокосы, оказались загрязнёнными радиоактивностью в результате паводковых затоплений в 1951 г. Позже их вывели из землепользования, а в пределах населенных пунктов пойма реки была огорожена колючей проволокой. Для контроля за соблюдением запретного режима была создана специальная милицейская бригада. Но что эта «милицейская бригада» могла сделать с нарушителями, которые жили на берегу реки и из-за непонятных запретов не могли к ней подойти? Оштрафовать? Посадить в концлагерь?
После запрета на использование речной воды жители деревень должны были брали воду из колодцев – где она была хуже качеством, воду привозили в бочках, местные власти пытались построить водопровод с забором воды в чистых источниках. Можно представить, как в начале 1950-х годов местные власти в каждой деревне вдоль реки Течи строят водопроводы «из чистых источников». Такими источниками могли быть лишь родники, но много ли родников в тех местах ещё не были загрязнены просачивавшимися в подземные водные горизонты ЖРАО от «Маяка»? Все эти ограничения действовали только на реке Течи. На реке Исеть было запрещено «всего лишь» использовать воду для питья и ловить рыбу (Аклеев и др. 1991-а).
Следует иметь в виду, что большинство принятых мер оказались малоэффективными из-за непонимания населением сути запретов и причин радиационного загрязнения, слабой охраны загрязненных территорий и крайне высокой степенью загрязненности окружающей среды в первые годы работы комбината «Маяк», когда о безопасности населения никто не задумывался.
С подобными же проблемами специалисты столкнулись позже при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Поскольку радиоактивное загрязнение не фиксируется органами чувств человека, оно как бы не существует. Лишь очень опытные ликвидаторы заявляют, что они чувствуют, когда оказываются на участках с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. Но это скорее всего не реальные ощущения, а богатый опыт, граничащий с интуицией. В результате неразвитости органов чувств человека для распознавания радиоактивности, люди не предпринимают необходимых мер для обеспечения собственной безопасности.
С большим опозданием было принято решение о полной эвакуации населения из наиболее неблагоприятных по уровню гамма-фона населенных пунктов. Только в 1953 г., когда сбросы высокоактивных ЖРАО в реку уже прекратились, а уровни радиоактивности существенно понизились по сравнению с пиковыми периодами, началось массовое отселение жителей из деревни Метлино. Полная эвакуация всех 1.200 жителей из этого населенного пункта закончилась только к 1956 г. Всего в 1955—1960 гг. с берегов реки Течи в удаленные районы было переселено 7.500 жителей из 19 деревень (Аклеев и др. 1991-а).
К моменту переселения, благодаря физическому распаду короткоживущих радионуклидов и проведённым защитным мероприятиям, радиационная обстановка в подвергшихся радиоактивному загрязнению районах, заметно «улучшилась». К этому времени жители успели получить основную часть поглощенной дозы как внешнего, так и внутреннего облучения. Поэтому запоздалая эвакуация, которая в случае своевременного осуществления могла бы стать эффективной мерой, в реальных условиях практически не дала результата. Более того, психологические травмы и стрессы, сопровождающие подобные принудительные переселения, скорее всего имели негативные последствия для здоровья людей.