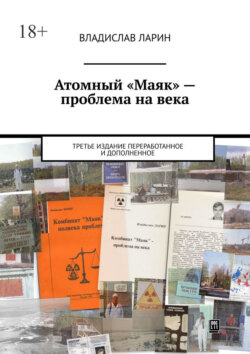Читать книгу Атомный «Маяк» – проблема на века. Третье издание переработанное и дополненное - Vladislav Larin - Страница 17
Глава 2. Три радиационные катастрофы на комбинате «Маяк»
2.3. Выброс радиоактивности из хранилища ЖРАО в 1957 г.
Оглавление2.3.1. Причины взрыва
После того, как был прекращён сброс в речную систему региона жидких высокоактивных отходов с активностью выше 1 Ки/л, они стали накапливаться для хранения в «банках» – ёмкостях из нержавеющей стали, установленных в бетонных «каньонах» (вероятно, под этим термином понималась большая покрытая бетоном яма), расположенных на территории «Маяка». Вместимость каждого резервуара составляла несколько сотен тонн раствора. Они содержали высокоактивные ЖРАО, состоящие преимущественно из раствора нитратных и ацетатных солей.
Известно, что при распаде радиоактивных веществ происходит выделение энергии, приводящее к нагреванию содержащегося в «банках» раствора. Повышение температуры без отвода тепла привело бы к ежесуточному нагреву раствора на 5—6 градусов. Согласно технологическому решению этой проблемы, отвод тепла от «банок» осуществлялся с помощью воды, циркулировавшей между «банками» и полностью сменявшейся каждые 12 часов. Этот режим считался достаточным для поддержания температуры раствора ниже точки кипения (Аклеев и др. 1991-а). Контрольно-измерительные приборы, которыми были оснащены эти ёмкости, позволяли следить за температурой раствора.
В сентябре 1957 г. система слежения за состоянием одной из «банок» вышла из строя, в результате чего был утерян контроль за температурой раствора. Это была «ёмкость 14», вмещавшая 250 куб. м высокоактивных ЖРАО, хранившихся там преимущественно в форме нитратно-ацетатных соединений. Располагалась она в «здании 120—3» «отделения 13» (Творцы ядерного щита, 1998). Одновременно с прекращением подачи охлаждающей воды к корпусу «банки», прекратилось её вентилирование. Согласно сделанным оценкам, за счет саморазогрева температура содержащегося в «банке» осадка достигла 330—350 градусов (Отчет о состоянии экологической безопасности, 1997). Персоналом эти неисправности обнаружены не были.
В результате повышения температуры и испарения жидкости из раствора начал образовываться взрывоопасный осадок, состоящий преимущественно из нитратных и ацетатных солей. Одновременно шло образование «гремучего газа» за счет радиолиза воды – происходило её разложение на кислород и водород (Аклеев и др. 1991-а). Из школьного курса химии мы знаем, что смесь кислорода и водорода называется «гремучей» потому, что способна самопроизвольно взрываться при определенной концентрации компонентов. Это и случилось в воскресенье, 29 сентября 1957 г. в 16.20 по местному времени. Детонация в результате произошедшего взрыва гремучей смеси привела к взрыву накопившегося сухого осадка, количество которого в «банке» достигало нескольких десятков тонн.
Такая версия причины взрыва «ёмкости №14» в настоящее время считается наиболее общепризнанной и чаще других встречается в литературе. Есть и другие, также имеющие под собой некоторую основу. Например, один из серьезных экспертов, много лет проработавший на высоких позициях в «Минатоме», в частной беседе сказал мне, что профессиональные атомщики считают представленную выше версию причин взрыва дилетантской. Согласно характеру взрыва они уверены, что это был полноценный ядерный взрыв, причиной которого стало накопление критической массы радиоактивных осадков в резервуаре с высокоактивными ЖРАО. По их мнению, только мощный ядерный взрыв мог отбросить бетонную крышку «каньона» на столь большое расстояние. Действительно, мощность взрыва, была огромной – она оценивается в 70—100 т тринитротолуола (Никипелов и др., 1990). Это только в 150 раз меньше мощности атомного заряда, сброшенного американскими военными на японский город Хиросима. В книге «Творцы ядерного щита» оценочная мощность взрыва приводится меньшая, хотя тоже впечатляющая – 18—33 т тринитротолуола.
Взрыв полностью разрушил «банку» из нержавеющей стали, находившуюся в бетонном «каньоне» на глубине 8,2 м. Бетонная плита перекрытия, весом 160 т, была сорвана с места и отброшена на 25 м в сторону. Разорванные листы нержавеющей стали, из которых была сварена емкость, были разбросаны в радиусе 150 м от эпицентра взрыва (Радиационная обстановка…, 1991).
Одновременно были сдвинуты плиты перекрытий каньонов двух соседних «банок» – «ёмкости 7» и «ёмкости 13», а сами «банки» были частично повреждены в верхней части без выброса находящихся в них отходов. Всего в этом хранилище помещались 60 «банок». В уцелевших ёмкостях находился высокоактивный «продукт» с суммарной активностью не менее 200 млн. Ки (Творцы ядерного щита, 1998).
В расположенном на территории этого отделения примерно в 150 м от эпицентра взрыва «здании 121», где размещались начальники смены отделения с дежурным персоналом, все оконные рамы были выбиты, кирпичная стена со стороны взрыва разрушена, тяжелый сейф с документами опрокинут. Загрязненные радиоактивностью куски бетона весом 2—4 кг были обнаружены на расстоянии 300—400 м от места взрыва (Творцы ядерного щита, 1998). Поскольку это был выходной день, персонала на объекте было меньше обычного, поэтому пострадало сравнительно немного работников.
2.3.2. Образование Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРС)
Согласно имеющимся оценкам, в результате взрыва 29 сентября 1957 г. ёмкости с высокоактивными ЖРАО («банки №14»), в окружающую среду было выброшено около 20 млн. Ки радиоактивности. Эта величина давно была известна специалистам, но на заре «эпохи гласности», когда только начинали публиковаться рассекреченные материалы, в большинстве публикаций упоминались только 2 млн. Ки. Как и многое другое, эти данные впервые была опубликована в книге «Итоги изучения и опыт ликвидации последствий аварийного загрязнения территории продуктами деления урана» (Антропова и др., 1990), фактически являющейся первоисточником данных о последствиях взрыва 29 сентября 1957 г. Чтобы не возникало путаницы, здесь необходимы некоторые комментарии по вопросу о количестве радиоактивности, выброшенной из хранилища в окружающую среду.
Действительно, в результате взрыва из «банки №14», содержавшей высокоактивные ЖРАО, в окружающую среду было выброшено не менее 20 млн. Ки радиоактивности. Из этого количества 18 млн. Ки (90%) осели на территории комбината «Маяк», а 2 млн. Ки (10%) поднялись на высоту примерно одного километра и были разнесены в северо-восточном направлении – в сторону города Каменск-Уральска воздушными потоками, скорость которых на разных высотах составляла от 5 до 10 м/сек (Антропова и др., 1990). Именно эта часть рассеянной в атмосфере радиоактивности, осевшей затем на поверхность земли за пределами промзоны «Маяка», составила Восточно-Уральский радиационный след (ВУРС), протянувшийся более чем на 300 км в длину при ширине от 8 до 50 км. ВУРС прошел по территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей и совсем немного не дошёл до одного из крупнейших городов Западной Сибири – Тюмени (Никипелов и др., 1990; Радиационно-экологическая обстановка…, 1991). Наиболее пострадавшей оказалась Челябинская область. Свердловскую и Тюменскую области ВУРС захватил лишь своими краями.
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения у краёв образовавшейся после взрыва воронки составляла 1.000 Р/час. На расстоянии 15—20 м – более 360 Р/час. В районе вышки часового, находящегося в 150 м от воронки по оси следа радиоактивного облака – 300 Р/час. Часовой не покинул свой пост до прихода командира несмотря на то, что был очевидцем взрыва (Творцы ядерного щита, 1998).
За четыре часа после выброса радиоактивное облако проделало путь в 100 км, а через 10—11 часов ВУРС полностью оформился. Его внешняя граница была проведена по изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв. км (минимально определяемый уровень, равный удвоенному уровню общего радиоактивного загрязнения территории для данного региона в 1957 г.) (Никипелов и др., 1990). По данным «Центральной заводской лаборатории» «Маяка», «Института прикладной геофизики», «Главного управления гидрометеослужбы при Совете Министров СССР» и ряда других организаций, принимавших участие в исследованиях, общая площадь ВУРСа составила 23 тыс. кв. км (Антропова и др., 1990).
В других источниках встречается иная величина площади ВУРСа – 15 тыс. кв. км (Никипелов и др., 1990). Вероятнее всего это объясняется тем, что плотность радиоактивного загрязнения 0,1 Ки/кв. км по Sr-90, по которой проводилась внешняя граница ВУРСа, в то время определялась с невысокой степенью достоверности. Кроме того, в большинстве источников приводятся данные о радиоактивности, определяемой только по содержанию Sr-90. Реально же радиоактивное загрязнение обуславливалось более широким набором радионуклидов, определение содержания которых было затруднительно.
Следует иметь в виду, что граница головной части ВУРСа была проведена по изолинии 2 Ки/ кв. км. Именно такой уровень радиоактивности окружающей среды по Sr-90 был признан предельно допустимым для безопасного проживания людей. В границах изолинии 2 Ки/кв. км оказалась территория длиной 105 км, шириной 8—9 км и площадью более 1 тыс. кв. км.
Несколько иначе картина режима ограничений в зоне ВУРСа сформулирована в работе «Радиационная авария на Южном Урале в 1957 г. и ликвидация её последствий». В ней говорится, что режим ограничения был введен в границах плотности загрязнения 4 Ки/кв. км по Sr-90 в головной и промежуточной частях ВУРСа путем создания санитарно-охранной зоны площадью около 700 кв. км, «охраняемой силами милиции». На этой территории всякая хозяйственная деятельность была исключена вплоть до 1961 г. Впоследствии площадь санитарно-охранной зоны была сокращена до 200 кв. км (Никипелов и др.). Площадь загрязненной радиоактивностью территории, определяемой по Sr-90, приведена в Таблице 2.2.
По воспоминаниям бывшего директор радиохимического завода М. В. Гладышева, в первые же часы после взрыва он выехал с дозиметрической бригадой на территорию своего объекта. Результаты замеров показали огромные уровни радиоактивности на территории промзоны «Маяка» и в ближайших населенных пунктах. Об уровнях загрязнения территории промзоны можно только догадываться – сколько-нибудь полных опубликованных данных на этот счет найти не удалось, хотя они обязательно должны были сохраниться в архивах ЦЗЛ. Следует лишь помнить, что там осели 90% всей выброшенной из хранилища радиоактивности. Согласно опубликованным данным, мы располагаем уровнями радиационного загрязнения ближайших к комбинату «Маяк» населенных пунктов на двадцатый день после взрыва – они представлены в Таблице 2.3. Несколько позже были проведены замеры радиоактивности почв в пределах части ВУРСа, ограниченной изолинией 28 Ки/кв. км – результаты представлены в Таблице 2.4.
Выброшенные продукты радиоактивного распада вызвали удивительное свечение атмосферы, отмеченное многими очевидцами. Даже центральные газеты написали о необычном северном сиянии над Уралом. Об этом же упоминает М. В. Гладышев в своей книге «Плутоний для атомной бомбы». Но долго обсуждать это атмосферное явление не позволила цензура.
Прибывшая на следующий день после взрыва комиссия во главе с Е. П. Славским, возглавившим к тому времени «Министерство среднего машиностроения» и начальником «Четвертого главного управления» А. Д. Зверевым, организовывала всю работу по выяснению причин и ликвидации последствий аварии.
Немедленные меры по ликвидации последствий взрыва имели две цели:
– Срочно оказать помощь жителям населенных пунктов, подвергшихся воздействию радиоактивности;
– Принять меры к восстановлению работы 13-го отделения радиохимического завода для приёма на хранение и выдачи высокоактивного «декантата» (отделённой от осадка жидкой фракции раствора плутония) после окислительного ацетатного осаждения («продукт 904») с целью его переработки и выделения ацетата натрия и других компонентов для технологического процесса «завода Б», который в то время был единственным в стране предприятием, производящим плутоний для атомных бомб.
2.3.3. Очистка промзоны от радиоактивности
Несмотря на появление новых публикаций, связанных с последствиями загрязнения территории комбината «Маяк» и прилегающих территорий, по-прежнему практически нет свидетельств очевидцев о том, как происходила очистка территории комбината от осевших на её территории 18 млн. Ки радиоактивности, выброшенной из взорвавшейся «банки». Говоря о тех событиях, приходится пользоваться свидетельствами очевидцев, которые просят не ссылаться на них в публикациях. Дело в том, что расписки о неразглашении государственной тайны, которые много лет назад подписывали все сотрудники атомной промышленности, до сих пор где-то сохраняются и «компетентные органы» могут их предъявить любому сотруднику, если сочтут его воспоминания наносящими какой-то ущерб.
Едва ли не единственной книгой, в которой удалось найти несколько фраз о том, как происходила очистка территории, оказалась упоминавшаяся выше книга М. В. Гладышева, опубликованная в начале 90-х годов без указания даты публикации. Опираясь на приведенные в ней сведения, попытаемся представить картину событий, происходивших на территории «Маяка» после 29 сентября 1957 г.
В ночь после взрыва дозиметристы заводской лаборатории работали на территории промзоны, составляя картограмму загрязнения. На крышах некоторых зданий уровни радиоактивности превышали 10 тыс. микроР/сек. Наиболее загрязнённым оказалось только что построенное здание второй очереди радиохимического «завода 235». Сразу встал вопрос: что проще сделать – отмыть стройку до «приемлемого» уровня или строить корпус здания на другом месте. Это было трудное решение.
Что выбрать? Что быстрее, проще и дешевле? Радиоактивное загрязнение объекта было крайне высоким. Среди загрязняющих радионуклидов преобладали Sr-90 и в меньшей степени Cs-137. Оба изотопа долгоживущие – их период полураспада составляет около 30 лет, причем защититься от цезия непросто, поскольку он является гамма-излучателем. Опыта отмывки поверхностей – особенно стен, перекрытий и крыш – не было. Кроме пожарных машин, бульдозеров, отбойных молотков и лопат другой техники не было.
И всё же было принято решение немедленно начать дезактивацию уже построенного здания и всей загрязненной территории. Для этого требовалось много людей, которые должны работать очень короткое время – чтобы избежать переоблучения, которые после каждой смены должны мыться и переодеваться в чистую одежду, а загрязнённую одежду – стирать. Из-за крайне высоких уровней радиоактивности территории рабочее время каждого работника могло составлять лишь несколько минут, после чего его приходилось менять – люди получали максимально допустимую дозу облучения даже по тем временам. Следует помнить, что согласно существовавшим в то время нормам радиационной безопасности, полученная сотрудниками доза могла быть заметно выше, чем в настоящее время.
Самые опасные и тяжелые работы на «Маяке» выполняли солдаты военно-строительных войск и заключенные. Некоторые очевидцы тех событий говорят, что заключенных на территории комбината не было по причине крайней секретности производства. Поэтому силами заключенных выполнялись только подготовительные работы так называемого нулевого цикла – расчистка территории, рытье котлованов под фундаменты, возведение стен и т. д.
Другие очевидцы вспоминают, что в момент взрыва 29 сентября 1957 г. неподалеку от его эпицентра находился лагерь заключенных, стояли казармы охранявших их солдат и располагались военные строители. Видимо, именно этот лагерь заключённых охранял солдат, наблюдавший за взрывом емкости с вышки на расстоянии 150 м от эпицентра. Солдаты и заключённые получили очень высокие дозы облучения, но зафиксированы эти дозы не были. Также есть упоминания об одиннадцати лагерях для заключенных, находившихся в районе строительства. Ветераны «Минатома» утверждают, что заключенных на «Маяке» было много, а для того, чтобы они не могли вынести на свободу сведения об атомной стройке, туда направляли «зэков» с большими сроками, которых перед освобождением, для конспирации направляли на Дальний Восток. Чтобы потом труднее было определить – где они работали и облучались.
Когда начались работы по дезактивации территории, то первыми туда были направлены опять же военные строители. Работали ли там заключенные? Определенных свидетельств на этот счет найти не удалось. Вероятнее всего они там были, как наименее ценный человеческий «материал» в глазах руководства.
Конечно, направляя военных строителей и рабочих в первые – наиболее опасные с точки зрения радиационной обстановки дни на уборку радиоактивного мусора, руководство сталкивалось с понятными проблемами – люди не хотели выходить на эту опасную работу. Солдаты, которых пытались первыми отправить на расчистку загрязненной радиоактивностью территории, не подчинялись командам офицеров. Да и сами офицеры неохотно отдавали команды, поскольку догадывались о степени грозящей опасности.
И все-таки работа началась. Где-то личным примером, где-то угрозами и обещаниями начальство смогло убедить людей выйти в первый раз из укрытия. А дальше всё пошло само собой. Сперва очистили дорогу от радиоактивного мусора, затем отмыли её из шлангов и по ней смогла двигаться пожарная машина, смывавшая радиоактивную «грязь» с крыш и стен наиболее загрязненных зданий. Штукатурку с них отбивали вручную, а стены после этого мыли щетками. Достаточно одного взгляда на это огромное здание, чтобы понять, сколь долгой и тяжелой была эта работа.
Собранный радиоактивный мусор складывали в самосвалы и увозили в яму, ставшую могильником для твёрдых высокоактивных отходов. Туда же увозили верхний слой почвы, снятый бульдозерами с загрязненной территории. Разумеется, все эти радиоактивные «отходы» оставались и «захоранивались» на территории «Маяка». Затем с помощью специальных тяжёлых плугов переворачивали и «заглубляли» верхний слой грунта, перепахивали очищенную таким образом территорию, стараясь поглубже зарыть в землю долгоживущую радиоактивность.
Всё это происходило в октябре-декабре 1957 г. Благодаря крайне напряженной работе к концу 1957 г. территория стала проходной – по ней можно было не только бегать, но и ходить. После этого всю зиму чистили и мыли крыши зданий, перекрытия, стены снаружи и изнутри. В результате через год стало возможно продолжить монтажные работы, хотя дезактивация территории продолжалась ещё более года.
Одновременно с очисткой территории велись работы на месте взрыва. Там были сосредоточены основные силы для ликвидации последствий аварии и предотвращения взрывов других банок. Работами руководил лично министр атомной промышленности Е. П. Славский. Поскольку взрывом были повреждены трубопроводы, по которым к «банкам» подавалась охлаждающая вода, происходил самопроизвольный разогрев хранившихся в них жидких высокоактивных отходов. Это могло стать причиной новых взрывов. В условиях очень высоких уровней радиации в эпицентре взрыва пришлось бурить наклонные скважины и по ним подавать воду в уцелевшие банки. Благодаря невероятным усилиям специалистов и рабочих, уже через несколько дней опасность новых взрывов миновала.
Работы по очистке территории проводились круглые сутки. Только за октябрь и ноябрь 1957 г. территория «отделения 13» радиохимического завода была засыпана чистым грунтом, объём которого составил около 100.000 м3. Но всё равно фон по гамма-излучению продолжал оставаться на уровне 100—150 мкр/сек. Серьезные трудности возникали при засыпке самой воронки от взрыва. Мощность экспозиционной дозы на её краях продолжала оставаться на уровне 100.000 мкр/сек. В марте 1958 г. основные работы по засыпке воронки и пространства между зданиями «отделения 13» были завершены.
Допуск на проведение восстановительных работ давался из расчета разового воздействия 0,8—1 Р при установленной на тот период норме 0,02 Р за смену. Многие рабочие, принимавшие активное участие в ликвидации аварии получили в 1957—1958 гг. по 60—120 Р в год при установленной на тот период норме 15 Р. Начальник цеха Е. М. Ихлов получил за 1957 г. зарегистрированную дозу 125 Р. Техник А. В. Кузьмин – 87,6 Р. Из семи начальников смен отделения четверо были выведены с завода по данным дозиметрической службы без права работы в основных цехах – то есть в условиях повышенной радиоактивности. Для них это означало большую потерю в заработке.
Каждый работник «объекта Б», принимавший участие в ликвидации последствий взрыва, получил более установленной нормы облучения за год, не считая дополнительно полученного внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления радионуклидов в организм с вдыхаемым воздухом – особенно в первые месяцы после аварии. Отмывку и очистку территории собственных объектов проводил каждый завод и цех. Помимо специально созданных для этих работ бригад, каждый работник объекта привлекался «на установленное количество времени» для очистки территории.
Чтобы радиоактивная «грязь» не разносилась за пределы промплощадки, городскому автотранспорту было запрещено въезжать на территорию комбината, а автотранспорту «Маяка» – её покидать. На контрольно-пропускных пунктах стояли поддоны для отмывания обуви персонала после смены – это позволило содержать улицы и дома в относительно «чистых» условиях (Творцы ядерного щита, 1998).
2.3.4. Переселение жителей ближайших деревень
Выше описывалось, как персонал «Маяка» боролся с 18 млн. Ки радиоактивности, выброшенной на территорию промзоны. Её удалось «локализовать» и стало возможно постепенно разворачивать работы по дезактивации территории и захоронению радиоактивной «грязи». Но, кроме этого, существовали 2 млн. Ки выброшенной в атмосферу радиоактивности, разлетевшейся за пределы промзоны и сформировавшей Восточно-Уральский радиационный след.
В распоряжении специалистов имелись весьма приблизительные данные о количестве радиоактивных веществ в хранилище, их изотопном составе на момент взрыва, результаты визуального наблюдения за характером образовавшегося облака и метеосводка по району бедствия. Это позволило достаточно быстро сделать вывод о серьезности произошедшей аварии.
Стало ясно, что радиоактивному загрязнению подверглась большая территория за пределами санитарно-защитной зоны комбината и что радиационная обстановка в населенных пунктах, оказавшихся на пути прохождения радиоактивного облака, требует проведения экстренных мероприятий. Практически сразу после взрыва в район радиоактивного загрязнения была выслана автомобильная разведка, обследовавшая район протяженностью 50 км по ходу движения облака, определены ориентировочные границы следа и измерены уровни внешнего гамма-излучения в ближайших населенных пунктах (Антропова и др., 1990).
Согласно расчётам, произведенным на основании данных радиационной разведки, жители пяти ближайших к месту взрыва населенных пунктов – Бердениш, Сатлыково, Галикаево, Русская Караболка и Юго-Конево могли получить суточную дозу от 1 до 36 Р. Данные о количестве и изотопном составе выброшенных в атмосферу продуктов деления не позволяли ожидать существенного снижения радиоактивного загрязнения местности в ближайшее после аварии время. Расчёты показали, что в трех первых населенных пунктах только в течение первого месяца накопленная жителями доза может составить от 150 до 300 Р (Антропова и др., 1990).
Экстренная эвакуация, а точнее – полное отселение жителей было проведено в четырех ближайших к предприятию деревнях по 50—80 дворов в каждой с общей численностью населения около 1.100 человек. Эвакуацию провели в течение первых десяти суток. Люди были вывезены и расселены в поселках на «чистой» территории, обеспечены жильем и работой (Антропова и др., 1990; Никипелов и др., 1990).
Мы практически не имеем сведений о том, как происходило переселение людей. Как в экстренном порядке, в осеннее время – когда только что закончилась уборка урожая – крестьян «обеспечивали жильём и работой» на новом месте. Более того, из-за секретности пострадавшим людям даже не могли объяснить – почему их неожиданно, осенью, лишают всего хозяйства, собранного урожая, домашних животных и вместе с детьми, ничего не разрешив взять с собой, заставляют забираться в грузовики и куда-то увозят…
В книге «Творцы ядерного щита» Э. Котов и П. Трякин описывают процесс замера радиационного загрязнения территории и населения в наиболее пострадавших населенных пунктах:
«Всё оказалось весьма «грязным», даже обувь и одежда у населения имели сильное загрязнение, помет домашней птицы оказался уже радиоактивным, не говоря о молоке, которое спокойно употребляли в пищу ничего не подозревавшие жители. Ведь радиоактивность глазами не увидишь, а воздействия не ощущаешь. Жители просто ничего не понимали, что произошло – они ничего не слышали, не видели, по радио ничего не передавалось. Дети, бегавшие по улице, с большим интересом и любопытством подставляли свои животики для замера. Со слезами на глазах смотрели женщины-врачи на этих бедных детей, на человеческое горе.
На седьмой день были поданы автомашины, началось переселение трех самых грязных селений. Трудно было уговаривать население переодеться во все новое и чистое, не брать с собой домашние вещи, кухонную посуду, различный инвентарь. И только тогда, когда увидели, что члены комиссии выдают бесплатно новую одежду, обувь, за каждую оставленную вещь, после её оценки, тут же выдают деньги – жители не стали возражать, согласились, т.к. получаемые суммы оказались весомыми» (Творцы ядерного щита, 1998).
Из воспоминаний заместителя директора комбината по переселению А. Н. Зайцева:
«Первые переселенцы из трех деревень Сатлыково, Бердениш и Галикаево – самые бедные, самые многодетные и непритязательные жители. В семьях менее чем по шесть детей не было, а в двух семьях по десять детей. Всех переодели в новую одежду, а в доме отдыха комбината «Дальняя дача», куда перевезли, недели 2—3 кормили бесплатно. Личный скот, домашняя птица – всё было «захоронено» в скотомогильниках. Стоимость была полностью оплачена, продукты питания оплачивались по рыночной стоимости. Дома и надворные постройки после оценки их стоимости и выплаты сумм каждому хозяину, были сожжены в безветренную погоду.
Для переселенцев срочно начали строить жилой поселок в совхозе Тахталым Кунашакского района. Строили трехкомнатные дома, жилой площадью 70 кв, м с верандами и надворными постройками. Всего 450 домов, из них 22 – однокомнатные, площадью 20 кв. м для одиноких учителей и медработников.
Для перевозки жителей, подлежащих эвакуации, Челябинским облисполкомом было выделено 1.000 автомобилей, водители которых много месяцев безотказно работали, совершая дальние рейсы не только по Челябинской и Свердловской областям, но и в Казахстан, Башкирию – куда изъявили желание выехать переселенцы. Все они получили причитающиеся суммы средств согласно оценочной ведомости.
Переехавшие в новые дома в совхозе Тахталымский жители остались без коров. Семьи большие, детей много, молока нет – а это основное питание. Обратились с просьбой к директору комбината. Г. В. Мишенков дал указание из нашего совхоза «Ворошиловский» выделить бесплатно каждой семье по корове эстонской породы – высокопродуктивные, закупленные нашим предприятием по высокой цене. Жители обрадовались. Но вновь беда – коровам требуется большое количество разнообразных кормов, а у жителей нет сена и соломы – кормить нечем. Директор совхоза решил эту проблему: он принял всех высокопродуктивных коров, а переселенцам предложил выбрать у него в совхозе – кому какая понравится – коров местной уральской породы. Зимой и этих коров нечем стало кормить. Обратились опять за помощью к директору комбината. Г. В. Мишенков дал указание: выделить по 500 кг сена и по 1 т угля каждой семье бесплатно.
Общие расходы по переселению и потерям, вызванные работами по ликвидации последствий аварии вне промзоны, составили 83 млн. рублей. Стоимость построенного жилья для переселенцев в данную сумму не входила» (Творцы ядерного щита, 1998).
Если бы жителей не отселили в первые после аварии дни, а оставили в наиболее загрязненной части ВУРСа на более продолжительное время, это имело бы гораздо более серьёзные последствия для их здоровья. Благодаря проведенной эвакуации ни у кого из жителей не было выявлено острой лучевой болезни, хотя специалисты признают, что сроки эвакуации были затянуты из-за отсутствия соответствующего опыта (Антропова и др., 1990).
Несколько позже, на основании предложения «Минсредмаша», «Минздрава», Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР было принято решение о необходимости переселения жителей с территории, на которой плотность загрязнения по Sr-90 превышала 4 Ки/кв. км. Употребление в пищу выращенной там сельскохозяйственной продукции было опасно для здоровья, а снабжать сельских жителей привозными чистыми продуктами – нерационально. Эвакуации предшествовала большая подготовительная работа: детальное определение плотности загрязнения территории, строительство новых поселков, оценка имущества и денежные расчеты с населением, проведение разъяснительной работы.
Отселение было начато через восемь месяцев после аварии, а закончено через полтора года. Всего с территории ВУРСа (в порядке экстренного и последующего планомерного отселения) были переселены жители 23 населенных пунктов общей численностью около 10.200 человек. Наибольшему загрязнению подверглись Каслинский, Кунашакский и Аргаяшский районы Челябинской области. На территории ВУРСа, ограниченной изолинией 4 Ки/кв. км, была образована защитная зона со специальным режимом, ограничивающим посещение его посторонними. Делалось это для уменьшения поступления в организм местных жителей Sr-90 дополнительно к полученной ранее дозе (Антропова и др., 1990; Никипелов и др., 1990; Радиационно-экологическая обстановка…, 1991).
Так выглядит картина отселения в сухих фразах научных публикаций. Других опубликованных деталей этого поспешного отселения более тысячи человек и менее поспешного, но также безоговорочного отселения еще более 9.000 человек, найти не удалось. В то же время, работая над этой книгой, автор много беседовал со специалистами, так или иначе общавшимися с местными жителями, пострадавшими от взрыва 1957 г. Один из них – Игорь Клементьевич Дибобес (1930—2015) с 1958 г. возглавлял филиал «Института радиационной гигиены» в Челябинске, который позже был преобразован в «ФИБ-4». Он вспоминает, что отселяемые деревни были сравнительно зажиточными, с крепкими домами и налаженным хозяйством. После срочной эвакуации людей переселили в наспех сделанные «финские» домики, плохо утепленные и слабо приспособленные к особенностям местного климата. В результате довольно быстро люди стали оставлять выделенные им дома и разъезжаться кто куда (Дибобес, частное сообщение, 1999).
Таким образом, незамедлительно после образования ВУРСа были предприняты следующие экстренные меры:
– эвакуация населения ближайших населенных пунктов, в которых потенциальная доза внешнего облучения за первый месяц могла превысить 100 бэр;
– санитарная обработка эвакуированного населения с заменой их личной одежды, запрет на вывоз личного имущества и запасов продовольствия;
– введение радиационного и дозиметрического контроля на наиболее загрязненной части территории ВУРСа, ограничение доступа посторонних на загрязненную территорию.
2.3.5. Меры безопасности для неэвакуированного населения
Иная обстановка сложилась на остальной территории ВУРСа, жители которой не попали под первую волну отселения. Специалисты сочли, что в соответствии с нормами чрезвычайного («аварийного») периода уровни внешнего облучения на этой территории не создавали угрозы для здоровья людей ни в первый год после аварии, ни в последующие годы. Главная угроза здоровью населения заключалась в опасности внутреннего облучения за счет употребления загрязненного продовольствия (Антропова и др., 1990).
Учитывая это, в первые дни после аварии было принято решение о снабжении населения чистым продовольствием взамен загрязненного. На практике это означало, что производились обмеры на предмет радиоактивности различных видов продовольствия (сложенного в бурты картофеля, зерна, крупного рогатого скота и т.д.). В случае превышения допустимого уровня радиоактивности, это продовольствие и животные уничтожались, а хозяева получали компенсацию. Этот процесс получил название «бракераж» и проводился в течение 2—3 лет после аварии. Осуществляли подобный контроль и «бракераж» специальные радиологические группы санитарно-эпидемиологических станций (Антропова и др., 1990; Дибобес, частное сообщение, 1999).
В связи с аварийным характером загрязнения был установлен временный – на один год – предельно-допустимый уровень (ПДУ) поступления радиоактивных веществ с пищей, рассчитанный по Sr-90, как наиболее опасному изотопу, содержащемуся в выпавшей смеси. В первый год после аварии величина ПДУ была установлена в размере 3.700 пКи/сутки или 1.4 мкКи/год (Антропова и др., 1990).
С первых суток после аварии «бракераж» проводился силами радиологической лаборатории «Маяка». Позже в работу включились ещё семь лабораторий, специально для этого созданных в системе отделов здравоохранения Челябинской области. Из них две лаборатории приступили к работе через 4 месяца, а еще пять – через 10—12 месяцев после аварии. Всего в описываемых работах принимали участие около 100 сотрудников.
На первых порах «бракераж» проводился лишь в четырех ближайших к месту аварии не отселенных деревнях. Впоследствии в зоне контроля оказались 50 населённых пунктов, расположенных на площади примерно 1.000 кв. км с уровнем загрязнения 0,5—1 Ки/кв. км по Sr-90. Данные о количестве забракованного по причине высокой радиоактивности продовольствия и фуража приведены в Таблице 2.5.
В первые три месяца основное внимание уделялось контролю за содержанием радиоактивных веществ в зерне, картофеле и фураже. Необходимо было в первую очередь решить проблему обеспечения людей основными видами продовольствия – хлебом и картофелем. Позже ассортимент контролируемых продуктов был существенно расширен (Антропова и др., 1990).
Большинство забракованного и изъятого продовольствия компенсировалось деньгами. Однако зерно, картофель, сено требовалось возмещать натурой, поскольку в противном случае население осталось бы до следующего урожая без основных продуктов питания, а сельскохозяйственные животные – без запаса кормов. Всего за два года работы радиологической службы было проанализировано на предмет содержания радионуклидов около 100.000 проб, в том числе продукты питания, вода, одежда, трава и т. д. Для сравнения можно сказать, что всей радиологической службой РСФСР за один год было проделано 75.000 радиометрических анализов, радиологической службой на территории ВУРСа за этот же период – 50.000 анализов (Антропова и др., 1990).
Представляется странным, что результаты этих замеров не были обобщены, систематизированы и опубликованы в последующие годы. А если такие результаты публиковались в «закрытых» изданиях – странно, что хотя бы обобщённые результаты не появлялись в «открытой» печати после распада СССР. В любом случае, эти собранные данные представляют значительный научный интерес – если, конечно, они не были утеряны…
Следует напомнить, что выброс радиоактивности произошел в конце сентября, когда заканчивалась уборка урожая и сельское население создавало запасы продовольствия и фуража практически на весь следующий год. Весь урожай подвергся поверхностному радиоактивному загрязнению. На территории с уровнем загрязнения 1.000 Ки/кв. км содержание Sr-90 в суточном рационе превышало годовой ПДУ. Как говорилось выше, население трех деревень, расположенных на этой территории, было эвакуировано в течение первых 10—15 суток после аварии. Никакие ограничения на использование загрязненного продовольствия в эти дни там не действовали (Антропова и др., 1990).
На территории с уровнем загрязнения от 10 до 100 Ки/кв. км по Sr-90 эвакуация населения проводилась через 1—1,5 года после аварии. В течение этого времени основной защитной мерой для населения была замена загрязненного продовольствия «чистым». Согласно произведённым расчётам, допустимое время потребления продовольствия на этой территории составляло от трех суток до одного месяца. В случае неограниченного использования загрязненного продовольствия предельно допустимое поступление Sr-90 в организм могло быть превышено в 10—100 раз. Причём следует помнить, что в те годы предельно допустимые нормы были значительно менее жёсткими, чем в настоящее время.
Первая информация о загрязнении продовольствия в зоне с указанными уровнями радиоактивности была получена через 20 дней после аварии. Разделение продовольствия и фуража на «относительно чистое» и полностью непригодное для использования было произведено через три месяца после аварии. Изъятие и уничтожение забракованного продовольствия было начато через 5—6 месяцев. Причем в первую очередь это касалось общественного сектора производства – то есть той продукции, которая должна была сдаваться государству.
Загрязнённое продовольствие, полученное в индивидуальных хозяйствах и составлявшее основу питания местного населения данного района, практически не обменивалось. В связи с тем, что не был организован подвоз чистого продовольствия, нельзя было изымать и уничтожать загрязненные продукты питания. В этом случае контроль за уровнем загрязнения продовольствия и фуража носил формальный характер, так как забракованная сельскохозяйственная продукция использовалась раньше, чем появлялась возможность замены. Это значит, что практически всё население региона без ограничения употребляло загрязненное радиоактивностью продовольствие до самой эвакуации, начавшейся лишь через год – осенью 1958 г. и завершившейся весной 1959 г. (Антропова и др., 1990).
На территории ВУРСа с уровнями содержания Sr-90 в почве 1—10 Ки/кв. км допустимое потребление полученных там продуктов составляло от одного года до одного месяца соответственно. Радиологические лаборатории, созданные для обслуживания этой территории, начали работы по проведению замеров через 4—12 месяцев после аварии. Инструктивно-методические указания и ПДУ были доведены до сведения областных отделов здравоохранения через 8 месяцев после аварии. В связи с этим «бракераж» продовольствия и фуража практически был начат спустя полгода и наиболее интенсивно осуществлялся на второй и третий год после аварии. Специалисты оценивают предпринятые меры как малоэффективные. Объясняется это объективными причинами, в основе которых лежит неожиданность произошедшей аварии, и субъективными – вроде невыполнения рекомендаций санитарной службы административно-хозяйственными органами (Антропова и др., 1990).
2.3.6. Уровни загрязнения различных элементов ландшафта
Итак, из наиболее загрязнённой радиоактивностью части ВУРСа людей переселили в «чистые» районы. Но в прежних местах их проживания остались засыпанные радиоактивной пылью жилища, хозяйственные постройки, пашни, пастбища, леса, реки и озёра. Всё это на многие годы было выведено из использования. Образовалась зона, где мало что говорило об опасности, но нахождение в которой представляло угрозу для здоровья. Позже на загрязненной территории был создан «радиационный» «Восточно-Уральский заповедник». Делалось это для удобства проведения наблюдений и исследований, а заодно для лучшей охраны – чтобы этим занималась не милиция, а гражданские лесники.
Как показали исследования, различные элементы ландшафта подверглись неодинаковому загрязнению радиоактивными веществами, выпавшими из поднявшегося с места взрыва облака. Специалисты считают, что наименьшему загрязнению подверглись вырубки и пахотные земли. По всей видимости это связано с тем, что благодаря растительному покрову – особенно листве деревьев – в лесах поверхность, на которую осела радиоактивная пыль оказалась существенно больше. Именно поэтому уровни загрязнения остальных элементов ландшафта сравниваются с загрязнением вырубок, которое принято за единицу. Результаты сравнения приведены в Таблице 2.6.
Анализ проб грунта в различных районах ВУРСа показал, что в первое время выпавшие радиоактивные вещества находились в верхнем слое почвы на глубине до 2 см. На лесных участках радиоактивная пыль осела в кронах деревьев – преимущественно на листьях. Уровни загрязнения почвы и растительности через несколько суток после аварии приведены в Таблице 2.7. Следует отметить, что активность исследуемых объектов в тысячи раз превышала фоновые значения, составлявшие в этом районе до аварии 0,1—0,02 мкКи/кг (Антропова и др., 1990).
Образовавшийся в результате выброса радиоактивный след пересек водосборные территории 4 рек и 30 озер. Проведенное через 5—22 суток после аварии обследование показало, что все источники водоснабжения на территории ВУРСа оказались загрязнены радиоактивными веществами. Уровни их радиоактивности возросли в 10—100.000 раз по сравнению с естественным фоном. Данные о процентном содержании Sr-90 в составе радиоактивного загрязнения воды и компонентов водоемов приведены в Таблице 2.8. (Антропова и др., 1990).
Обращаем внимание на отсутствие данных о доле других радиоактивных элементов в суммарной бета-активности воды и компонентов водоемов, относящиеся к этому периоду. Поэтому приходится считать, что изотопный состав смеси осколков деления, выпавших на водную поверхность, не отличался от общего изотопного состава радиоактивных выпадений (Антропова и др., 1990).
В первые месяцы после аварии радиоактивная пыль перемещалась ветром, что привело к изменению границ следа и смещению изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв. км по Sr-90 в восточном направлении. Ветровая миграция радионуклидов в весенние месяцы наблюдалась в течении нескольких последующих лет, но с появлением растительного покрова она прекращалась.
С течением времени радиационное загрязнение территории ВУРСа снижалась по следующим основным причинам:
– за счет естественного распада короткоживущих радионуклидов;
– за счет перераспределения радиоактивных элементов в природных системах, в том числе благодаря их заглублению в почву и в донные отложения;
– за счет биогеохимической миграции радионуклидов;
– за счет хозяйственной деятельности, включавшей мероприятия по защите населения и экосистем от радиации.
Работая над этим изданием своей книги, я нашёл очень интересную работу сотрудников «Института глобального климата и экологии» – «Атлас ВУРСа», опубликованный в 2013 г. Кроме очень обширного и качественно исполненного картографического материала за 1957—2012 гг. Атлас имеет многочисленные Приложения, изучение которых поможет заинтересованному читателю составить более полное представление о месте описываемых событий и перспективах развития экологической ситуации на территории ВУРСА.
Из аннотации к Атласу: «Атлас представляет собой фундаментальное комплексное научно-справочное произведение, характеризующее загрязнение (ретроспектива, современное состояние и прогноз) территории Южного Урала долгоживущими дозообразующими радионуклидами, долговременно сохраняющимися в ландшафтах и включенными в жизнь и функционирование экосистем. Картографирование радиоактивного загрязнения базируется на материале полевых исследований с отбором проб и последующим их радиохимическим анализом (на стронций-90, изотопы плутония-238, -239, -240) и гамма-спектрометрическим анализом на цезий-137. Объектами исследования являются: Восточно-Уральский радиоактивный след, Карачаевский след, поймы рек Теча и Исеть. Приведены справочные материалы по экологической ситуации в зоне воздействия Производственного объединения «Маяк».
Атлас можно найти в интернете по его названию или по ссылке «http://downloads.igce.ru/publications/Atlas/CD_VURS/contents.html».
2.3.7. Создание опытной научно-исследовательской станции («ОНИС»)
После аварии 1957 г. руководство «Министерства среднего машиностроения», которому подчинялась вся атомная промышленность и в том числе комбинат «Маяк», проявило гораздо большую оперативность в ликвидации её последствий по сравнению с ликвидацией последствий радиоактивного загрязнения бассейна реки Течи в 1949—1951 гг. Уже в апреле 1958 г. по приказу «Министерства среднего машиностроения» была создана «Опытная научно-исследовательская станция» («ОНИС»), сотрудники которой проводили исследования, связанные с возможностью реабилитации – восстановления хозяйственной деятельности на загрязненных радиоактивностью землях и разрабатывали методики организации на них сельскохозяйственного производства.
Основными направлениями деятельности «ОНИС» являлись:
– исследование агрохимии радионуклидов;
– проведение работ, связанных с сельскохозяйственной радиоэкологией;
– проведение работ, связанных с радиоэкологией лесов;
– проведение работ, связанных с водной радиоэкологией;
– организация и проведение радиоэкологического мониторинга;
– исследование воздействия ионизирующего излучения на живую природу.
«ОНИС» была размещена в поселке Метлино в 15 км от Челябинска-65 на базе «совхоза №2», ликвидированного в 1958 г. из-за радиоактивного загрязнения его земель. Этот поселок был специально построен для жителей населенных пунктов, переселенных в связи с радиоактивным загрязнением реки Течи. Но радиация вторично настигла этих людей и после аварии 1957 г. им снова пришлось менять место жительства. Поселок Метлино находился в границах ВУРСа и дальнейшее облучение людей было недопустимо.
Лабораторная база станции была размещена в нескольких одноэтажных щитовых бараках на территории бывшего лагеря для заключенных, строивших комбинат «Маяк». В соответствии с штатным расписанием 1958 г. «ОНИС» была представлена пятью лабораториями – агрономический, гидробиологической, почвенно-биоценологической, физико-дизиметрической и химической, а также большой полевой сельскохозяйственной группой. Штат станции насчитывал 211 человек (Творцы ядерного щита, 1998).
На станции работали специалисты из «Академии наук», «Министерства здравоохранения», «Государственного комитета по гидрометеорологии», «Государственного агропромышленного комитета», «Института прикладной геофизики», «Тимирязевской академии», «Московского государственного университета», «Института биофизики АМН» и его филиалов, «Агрофизического института ВАСХНИЛ», «Почвенного института Минсельхоза СССР», «Ленинградского института радиационной гигиены Минздрава РСФСР». Научным руководителем «ОНИС» был академик «Всесоюзной сельскохозяйственной академии» (ВАСХНИЛ) В. М. Клечковский. В феврале 1958 г. именно он сформулировал основные научные задачи станции:
– изучение миграции радиоактивных веществ в условиях радиоактивного загрязнения территории;
– изучение накопления радиоактивных веществ в сельскохозяйственных продуктах;
– агротехнические приемы снижения накопления радиоактивных веществ в растениях;
– разработка рекомендаций по сельскохозяйственному использованию загрязненной территории;
– изучение генетических последствий воздействия повышенного фона радиации на животных и растения в условиях радиоактивного загрязнения территории (Творцы ядерного щита, 1998).
«ОНИС» была крупной организацией, хорошее государственное финансирование которой позволяло проводить самые сложные эксперименты по миграции радионуклидов в трофических цепях. Научный коллектив станции проводил разнообразные исследования на территории ВУРСа и одновременно организовывал различные экспериментальные работы.
Автору приходилось слышать мнение, что «ОНИС» создавалась исключительно для изучения возможностей хозяйственного использования загрязненной радиоактивностью территории ВУРСа. Думается, что это верно лишь отчасти. Дело в том, что затраты на содержание ОНИС многократно превышали стоимость всей продукции, которую можно было бы произвести на загрязненной территории, а значит экономически это не было оправданно. Разумнее было сохранить за той территорией статус заповедника и ждать триста-пятьсот лет, пока произойдет естественный распад радионуклидов до сравнительно безопасного уровня.
Зная из частных бесед с руководством и сотрудниками «ОНИС» о характере производившихся там экспериментов, правильнее предположить, что территория ВУРСа стала для ученых и специалистов исследовательским полигоном в рамках подготовки к «ограниченной атомной войне». Мир в те годы балансировал на грани атомного безумия и страны, обладавшие атомным оружием, искали способы выживания населения в случае неожиданного ядерного удара. Сейчас некоторые эксперименты, связанные, например, с кормлением животных пищей, смешанной со свежеоблучённым ядерным топливом, воспринимаются как жестокость, но в то время это казалось естественным. Проблема формулировалась так – «выжить или погибнуть в ходе ядерного конфликта». Мало кто понимал, что «выжить» и «спастись» это не совсем одно и тоже…
В пределах санитарно-защитной зоны ВУРСа был создан «Восточно-Уральский радиационный заповедник» площадью 166 кв. км. В нём, как в любом заповеднике, было запрещено заниматься хозяйственной деятельностью, собирать грибы, ягоды и охотиться. В некоторых местах его огородили колючей проволокой и поставили предупредительные таблички – аншлаги. Лесники и милиция до сих пор совместно следят за соблюдением заповедного режима. В первые годы после аварии санитарно-защитная зона имела площадь более 700 кв. км, но в 1962 г. её территория была сокращена до 220 кв. км. Именно заповедник и санитарно-защитная зона были местом проведения исследований учёных и специалистов «ОНИС».
Для заглубления в почву выпавших радионуклидов, в течение 1958—1959 гг. проводилась глубинная вспашка территории ВУРСа. На площади 62 кв. км верхний слой почвы был перевёрнут и «запахан» на глубину до 50 см. Но для подобных работ требовались очень мощные трактора и тяжёлые плуги. Несмотря на то, что плуг тащили два трактора, это была слишком трудная задача (Дибобес, частное сообщение, 1999). Поэтому от глубокой вспашки пришлось отказаться и еще 200 кв. км были вспаханы обычным способом.
В лучшие годы существования «ОНИС» на ее базе проводились эксперименты с шестьюдесятью коровами, сотней свиней и ста пятьюдесятью овцами одновременно. Животных кормили сеном, собранным на территории ВУРСа, после чего проводили наблюдения за процессами накопления радионуклидов в организме животных, степенью их воздействия и скоростью выведения из организма. Специально для этих целей была подобрана порода свиней, вес которых был близок к весу человека. Их использование в экспериментах позволяло, с определенной степенью приблизительности, распространять получаемые результаты на человеческий организм.
Как уже говорилось, в настоящее время «ОНИС» объединена с «Центральной заводской лабораторией» комбината «Маяк».