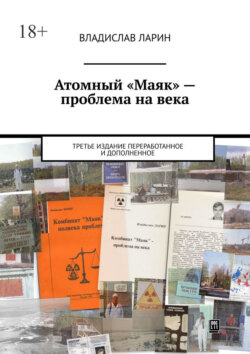Читать книгу Атомный «Маяк» – проблема на века. Третье издание переработанное и дополненное - Vladislav Larin - Страница 22
Глава 3. Неизвестные радиационные аварии на «Маяке». «Неучтённый контингент»
3.3. Аварии на радиохимическом заводе
Оглавление3.3.1 Условия труда персонала радиохимического завода
Облучённое в реакторе топливо грузилось в специальные вагоны и по железной дороге мотовозом отправлялось на радиохимический «завод 25», где его растворяли в азотной кислоте для выделения наработанного плутония. Поскольку на совершенно новом производстве технология не была отработана, все процессы организовывались по аналогии с обычным химическим производством. Квалифицированного персонала тоже не было и для работы набирали молодых специалистов-технологов, которые уже на собственном опыте постигали особенности атомного производства. Поскольку радиационные аварии происходили часто, сотрудники «Маяка» платили за эту науку собственным здоровьем, а иногда и жизнью.
Радиохимический завод, который из соображений секретности, а позднее – для краткости называли «объект Б», начали строить летом 1946 г. 22 декабря 1948 г. первая партия облучённых урановых «блочков» поступила с «реактора А» на радиохимический завод для растворения, дальнейшей переработки и выделения плутония. С этого момента «аппарат-растворитель А-201» начал работать в производственном режиме, но готовая продукция была готова для передачи на химико-металлургический «завод 20» – где должен был производиться металлический плутоний – только в феврале 1949 г. Под «готовой продукцией» понимался Pu-239 – первоначально в виде пасты, а позже – в виде азотнокислого раствора. Эти два месяца были крайне напряженными для персонала объекта, и многие сотрудники именно тогда получили наибольшие дозы облучения.
По воспоминаниям директора «плутониевого завода» (это было ещё одно название радиохимического завода) М. В. Гладышева уже в первые дни начались неожиданности. Например, на последнем этапе – после многочисленных химических реакций – соединения плутония и урана требовалось разделить. Предполагалось, что уран будет оставаться в виде осадка на фильтре в конце последней стадии технологического процесса. Можно представить себе изумление персонала, когда ожидаемого вещества на фильтрах не оказалось. Учёным стало казаться, что расчёты не совпадают с практикой. Армейские генералы, следившие за учеными, начали сердиться – их тоже постоянно контролировало собственное руководство, требовавшее скорейшего получения плутония. По правилам тех лет во всех неудачах были виноваты «враги» и «вредители», в роли которых мог оказаться любой сотрудник производства – от рабочего до генерала.
После тщательного анализа причин неудачи выяснилось, что на одном из этапов процесса выделения осадка воздух для барабатажа в аппарат подавали под слишком большим давлением и он выдул раствор плутония в вентиляцию. После этого все сотрудники были брошены на сбор радиоактивного раствора, который вытекал из щелей вентиляции (Гладышев, без даты).
Используемое на радиохимическом заводе оборудование имело большие размеры и, как следствие, большие площади внутренних поверхностей на которых оседал плутоний. Создавалось впечатление, что где-то в ходе технологического процесса его количество уменьшается. Приходилось вести поиски, на что опять уходило драгоценное время. Все это усиливало нервное напряжение персонала и люди уже не думали об опасности радиации – каждый мог быть обвинен во вредительстве и в лучшем случае оказаться в трудовом лагере. Эта опасность была вполне реальной – в отличии от малоизвестной в то время опасности, связанной с воздействием радиации.
В первый период работы радиохимического завода происходили многочисленные аварии. Были взрывы технологического оборудования. Происходили утечки радиоактивных жидкостей, загрязнявших целые этажи и разносившихся на обуви по всем помещениям. Персонал получал высокие дозы облучения на рабочих местах из-за неотработанности технологических процессов. Но что ещё опаснее – радиоактивность разносилась по жилым домам.
Сейчас на всех объектах, связанных с радиоактивностью, существуют специально оборудованные проходные пункты, на которых рабочие после окончания смены переодеваются, моются и проходят дозиметрический контроль. Приходить на рабочее место можно только в специальной одежде. Контроль за радиационной обстановкой налажен хорошо. Но так было не всегда.
Во времена пуска радиохимического завода люди работали с радиоактивностью в своей повседневной одежде, лишь иногда одевая халаты и резиновую «спецобувь» – сапоги. Душевых при выходе с территории объекта не было. Контрольно-пропускной пункт, на котором должен был производиться дозиметрический контроль, практически не использовался, и радиоактивная «грязь» разносилась по городу и жилым домам. Люди не знали самых элементарных правил техники безопасности при обращении с радиоактивными веществами, а те, кто эти правила знал – не находили возможности им следовать. Бывали случаи, когда рабочие сидели на трубах, по которым подавался радиоактивный раствор из одного цеха в другой. Разумеется, это быстро привело к появлению больных с признаками лучевого поражения (Гладышев, без даты).
Имели место и смертельные случаи за пределами производственной зоны, связанные с радиоактивностью. Например, один инженер принес домой стальную трубу, найденную на заводской свалке. Он не догадывался о высокой радиоактивности своей находки и сделал из неё детали кроватки для своего ребенка. В результате его жена и ребенок умерли, а он сам получил серьёзное заболевание (Гладышев, без даты). Подобные трагические случаи происходили нередко, но все-таки основное радиоактивное облучение людей происходило на их рабочих местах.
В первые годы на всех объектах «Маяка» периодически случались более или менее значительные инциденты, которые сегодня попадают под определение радиационной аварии. Тогда для этого находились другие – идеологические или в лучшем случае производственно-бытовые определения и ярлыки – «вредительство», «халатность», «недосмотр».
В 1950 г. при проверке противопожарного состоянию «завода Б» было обнаружено, что на всю высоту 150-метровой вентиляционной трубы стоят деревянные строительные леса. В предпусковой спешке их оставили строители, покрывавшие изнутри трубу специальным антикоррозийным составом. Любая искра, сухие доски вспыхнут и пожар разрушит значительную часть «объекта». А через эту трубу уже было выброшено огромное количество радиоактивных газообразных отходов. Надо было срочно принимать меры и разбирать забытые строительные леса.
Из воспоминаний А. Н. Зайцева:
«Получив задание, я организовал бригаду из 14 человек. В трубу попасть лучше всего через крышу «здания 101». На крыше мы надевали комбинезоны на своё бельё и работали без перерыва в весьма вредных условиях. В это время дозиметрический контроль был очень слабым, хороших приборов не было и системы «допусков» тоже ещё не было.
На вредность мы не обращали внимания, все были молодые, здоровые. После работы даже санпропускник не проходили – снимали «грязные» комбинезоны, оставляли их на крыше здания, надевали свои костюмы и скорей домой. Главное – задание было выполнено, аварийное состояние трубы ликвидировано» (Творцы ядерного щита, 1998).
3.3.2. Отдел технического контроля
«Отдел технического контроля» («ОТК») получаемой продукции на «заводе 25» был организован не сразу. После того, как объект проработал несколько месяцев, руководство приняло решение организовать «ОТК». В проекте не были предусмотрены ни дистанционный отбор проб, ни их расфасовка под защитой, ни транспортировка, ни безопасное хранение. Поэтому отбор делался самым примитивным образом – прямым забором продуктов из «аппаратов-растворителей» ядерного топлива. В местах, где брали пробы, влияние радиации просто не учитывалось. Пробоотборщик брал пробу и как можно скорее бежал с ней в лабораторию – чтобы получить меньшее переоблучение.
Работами по отбору проб и их расфасовкой для анализа руководил сперва А. П. Вяткин, позже – Э. З. Рагимов. Они всеми силами старался снизить облучение своих подчиненных – рассказывали, как лучше отобрать пробу, где можно сократить путь, чтобы быстрее доставить колбы с пробами в лабораторию. Несмотря на это, за шестичасовой рабочий день пробоотборщики всегда переоблучались. Пришлось перевести их на график работы «через день» – день работают, день отдыхают (Творцы ядерного щита, 1998; Сапрыкина, частное сообщение, 2001).
Из воспоминаний пробоотборщицы А. Е. Беленовской:
«Работали мы через день, шесть часов отработаем, а на следующий день выходной. Нам это очень нравилось, мы были довольны – много времени оставалось на танцы, кино. Это потом мы осознали, в каком пекле работали. Конечно, мы научились работать осторожно, сильно не переоблучаться – за это не только ругали, но и лишали премии. Поэтому кассеты часто с собой не брали – оставляли их в чистом месте. В то время мы не задумывались, что с нами будет» (Творцы ядерного щита, 1998).
3.3.3. Аварии на разных этапах производства
Ф. Д. Кузнецова работала «оператором-аппаратчиком», а затем начальником смены дозиметрической службы «отделения 8» на «заводе 25» с момента его пуска 22 декабря 1948 г. до 1956 г. На этом участке проходило разделение в растворе плутония и урана. Она вспоминает:
«Закончив химико-технологический техникум в Кинешме я была направлена на работу на «Маяк». Поскольку технологическая схема первой очереди плутониевого производства воспроизводила обычное химическое производство, специально подготовленных технологов для работы с радиоактивным продуктами не было. Более того, не были учтены даже те особенности, которые были известны для опасных химических производств. Весь «завод 25» имел вертикальную схему расположения производства, когда любая протечка на верхнем уровне приводила к загрязнению всех этажей. А протекали в большинстве случаев сильно радиоактивные, едкие и токсичные жидкости. Это было первой причиной многих радиационных аварий. Позже, когда пускали вторую очередь этого завода, получившего название «завод 35», учли эту ошибку. Производство было расположено по горизонтальной схеме, что позволило решить многие проблемы.
Вторая причина многочисленных радиационных аварий заключалась в ужасной спешке в условиях строжайшей секретности. Все делалось под личным контролем Лаврентия Павловича Берии (1899—1953) и под присмотром сотрудников комитета госбезопасности, когда наказывали за любую оплошность. Страх толкал людей на поступки, которые приводили к авариям. Кроме того, использовались очень сложные химические продукты и дорогие аппараты. Например, в технологической схеме были аппараты, сделанные с большим добавлением платины, золота, серебра. Эти аппараты и продукты берегли больше, чем людей.
Третья причина – на производстве было запрещено делать какие-либо записи. Все работы производились по памяти, чтобы не было «утечки» совершенно секретной информации. Люди были постоянно в состоянии стресса, боясь забыть что-нибудь важное, относящееся к производству. И нередко забывали – особенно на первых порах. Всё это отражалось на работе.
Несмотря на спешку, к назначенному сроку «производственная схема» не была готова. В реакторе была наработана первая порция облучённого топлива, готового для переработки, а технологическую линию для его растворения ещё не собрали. Спецслужбы давили – делайте быстрее. Нашему начальнику «8-го отделения» было сказано: пока не закончишь подготовку оборудования – с рабочего места не уйдешь. Пришёл часовой и отобрал у него пропуск, без которого нельзя было выйти с территории предприятия. Что он мог сделать один? Ясно, что мы все остались с ним. Мы провели на заводе двенадцать суток, пока технологическая схема не заработала.
Не успели в конце декабря пустить производство – в январе на трубопроводе основного продукта образовался свищ и раствор плутония полился прямо на стоящего в отделении часового. Таких случаев впоследствии было множество и боролись с разлитым радиоактивным раствором с помощью тряпки и ведра. Уборщиц в цехах не было по причине секретности, поэтому всю уборку мы делали сами.
Чаще всего разливы происходили в «каньонах», где было установлено технологическое оборудование. Эти «каньоны» были закрыты бетонными плитами, которые никогда не должны были подниматься. Их назначение – защищать персонал от радиоактивного излучения, идущего из технологических «аппаратов». Согласно технике безопасности спускаться туда было запрещено, но другого способа собрать разлитый раствор не было. Поэтому после первого же разлива радиоактивного продукта эти плиты были подняты и на место их больше не ставили. Спускались в этот «каньон» все сотрудники по многу раз. Как только сработает сигнализация, показывающая, что произошла очередная утечка радиоактивного раствора – оператор лезет туда и смотрит – что случилось. А потом вручную ликвидирует последствия.
Я работала оператором и мне часто приходилось собирать разлившийся в «каньоне» радиоактивный раствор. Собирала его тряпкой, поскольку разливы не были предусмотрены технологической схемой и никаких устройств для его отсоса не создали. Собранный раствор из ведра переливали в бутыль и пускали дальше в производство – ведь он был очень дорогой. Часто это делали голыми руками, поскольку резиновых перчаток на всех не хватало.
Позже, на «заводе 35», бетонные «каньоны» с аппаратами были выстелены нержавеющей сталью, с которой проще отмывать радиоактивность. На нашем «заводе 25» дно «каньонов» было бетонное и отмыть с него радиоактивность было практически невозможно. Бывали случаи, когда приходилось отбойными молотками ломать бетонный пол, чтобы снять несмываемый слой радиоактивности. В результате всех этих локальных радиационных аварий в здании было немало мест, очень сильно загрязненных радиоактивностью.
На нашем участке объёмы раствора в производственных «аппаратах» были небольшие – от 50 до 100 литров, а на начальных этапах растворения ёмкость аппаратов составляла до шести кубометров (6.000 л). И когда из такого аппарата случалась протечка, то терялось по две-три тонны высокоактивного раствора. Собрать такой объем тряпкой уже было невозможно.
Никто из нас не знал, что предстоит работать в условиях повышенной радиоактивности, и что все эти продукты, с которыми мы имели дело, повлияют на наше здоровье. Поэтому лезли в каньон и убирали всё сами. Причем виноват всегда был оператор, во время дежурства которого случился разлив радиоактивной жидкости. Хотя, наказывали и начальников смены.
Задача нашего участка заключалась в разделении урана и плутония, находившихся в растворе. В осадке должен был оставаться плутоний, а в растворе – уран. Этот процесс осаждения всегда шёл плохо, хотя все процессы происходили под присмотром операторов. Причем смотрели глазами, а не посредством каких-нибудь приборов. Все решения принимались на глазок.
– Прозрачный раствор? – Спрашивал начальник смены у оператора.
– Да вроде прозрачный. – Отвечал оператор.
– Можно сливать?
– Сливай, пожалуй…
Однажды в 1953 г. пластмассовый аппарат ёмкостью примерно 200 литров, в котором шло осаждение, сам собой развалился. Пластмасса не выдержала экстремальных условий эксплуатации. Став хрупкой, она треснула и радиоактивный раствор разлился. Мы всю радиоактивность собрали, отчистили, вымыли полы. Конечно, нахватали большие дозы, а когда закончили – у проходной нас уже ждал «черный воронок». После смены всю ночь мы писали объяснения в конторе госбезопасности – как это произошло.
Очень часто на трубах, по которым подавался радиоактивный раствор, образовывались свищи. Иногда трубы были плохо сварены. Иногда на вентилях выбивало прокладку. Открывает оператор вентиль, чтобы с помощью давления или вакуума перекачать раствор из одного аппарата в другой, а из-под прокладки начинает течь раствор.
При вертикальном расположении «завода 25» положение технологического оборудования определялось в метрах от нулевой отметки – за которую бралась поверхность земли. На уровне 7,7 м проходил трубно-вентильный коридор, где были в ряд расположены многочисленные вентили от разных аппаратов. Из-под этих вентилей постоянно случались протечки радиоактивного раствора, и он был очень сильно загрязнен радиоактивностью. Коридор был очень узкий, и когда случалась протечка, я ложилась на живот и заползала в этот коридор, чтобы тряпкой собрать разлившийся раствор. А спиной стукалась о проходившие выше вентили и трубы. Из средств защиты были только резиновые перчатки. Часто радиоактивный раствор попадал на лицо и в глаза. А ведь это была не простая радиоактивность – это был раствор плутония в азотной кислоте с добавлением других крайне ядовитых жидкостей – включая плавиковую кислоту.
Позже, когда я набрала слишком большую дозу для того, чтобы продолжать работу на «аппаратах» для растворения облучённого топлива, меня перевели в дозиметрическую службу этого же завода. Там я была свидетелем другой разновидности радиационных аварий, связанных с транспортировкой облучённого топлива с реакторов «завода А» на «завод Б».
После того, как облученные в реакторе блоки выгружались из реактора, специальными вагонами их доставляли на «завод 25», где происходило растворение. Из-за ошибок в конструкции разных производственных узлов, проблемы возникали постоянно. А поскольку речь идёт о только что извлечённом из реактора топливе, то любая проблема сразу перерастала в радиационную аварию.
Труба, по которой «блочки» из вагона должны были ссыпаться в первый «аппарат», имела такую форму, что они постоянно застревали. Представьте себе трубу, в которой застряло несколько сотен килограммов свежеоблучённого топлива. Тогда со всей смены собирали мужчин и по очереди длинным железным прутом – «шуровкой» – проталкивая «блочки» в аппарат. А для этого нужно было как можно дальше просунуть руку с шуровкой в трубу. Единственной защитой были рукавицы и хлопчатобумажные комбинезоны.
Был случай, когда в принимающем аппарате взорвался водород, а в это время один из рабочих вручную проталкивал в аппарат-растворитель облученные блоки. Взрывной волной его далеко отбросило от принимающего отверстия. Он долго лежал в больнице, но это не помогло – он умер. Причина заключалась в спешке, которую ещё подхлестывало соревнование между бригадами – кто больше и быстрее выполнит задание. По технологии растворение «блочков» можно было начинать только после того, как закончилась их выгрузка. Но поскольку их выгружали постепенно, то для ускорения процесса все смены шли на нарушение. Растворение начиналось до того, как закончится выгрузка. По этой причине и произошел взрыв – процесс уже шёл, когда рабочий заканчивал проталкивать блоки в аппарат. Подобные случаи были нередки.
Ещё пример локальной радиационной аварии. На нашем этапе в технологическом процессе использовалась плавиковая кислота. Она растворяет всё, кроме драгоценных металлов. Поэтому не только аппараты, но и некоторые небольшие трубы были сделаны из золота. Когда такой аппарат выходил из строя, механики его вручную отмывали от радиоактивности, разбирали и взвешивали с точностью до тысячных долей грамма. Только после этого сдавали в ремонт.
В качестве уплотнителя использовалась резина, которая не выдерживала тех условий, в которых работали установки. Часто бывало – мы начинаем перекачивать радиоактивный раствор из одного аппарата, а в другой аппарат он не поступает. Значит, труба где-то забита резиной. Происходит задержка технологического процесса, а значит неизбежно наказание. Выход один – постепенно резать трубу в поисках места засора. Так и резали эту радиоактивную трубу, пока не находили в ней застрявший кусок резины. Вычищали, звали сварщиков, они снова все сваривали, проверяли качество сварки и только после этого мы продолжали работу. Разумеется, определить полученные нами дозы было невозможно. И вообще, радиационного контроля практически не было. Зачем он был нужен, если начальству и так было ясно – мы работаем при очень высоких уровнях радиации, а заменить нас некому.
На последнем этапе готовый «продукт» нужно было разлить в стеклянные бутыли перед отправкой на «завод 20» для получения из него металлического плутония. Из последнего производственного аппарата на нашем заводе раствор разливали по бутылям. Для этого к трубе подставляли бутыль, подтыкали ветошь для уплотнения и с помощью вакуума пересасывали раствор. Потом бутыль «бралась на пузо» и вручную переносилась в «каньон» – склад для готовой продукции.
На этом этапе были случаи самопроизвольной цепной реакции, когда раствор плутония принимал форму, близкую к сферической и происходил выброс нейтронов. Так в 1953 г. переоблучился начальник технического отдела А. А. Каратыгин, которому в результате были ампутированы ноги и пальцы на руках. Позже, в 1968 г. подобный случай произошел с Ю. П. Татаром. Полученная им доза общего облучения тела составила несколько сот бэр, на конечности пришлось несколько тысяч бэр. И все-таки он выжил и сейчас живет в Озёрске, хотя лишился обеих ног и правой руки (его историю мы приведём далее – В.Л.).
Персонал всегда был готов к наказанию. Если выполнять требования техники безопасности, то не удавалось в полном объеме выполнить производственное задание, а за это отправляли под суд. Если нарушать технику безопасности, то всегда был риск потерять не только премию, но также здоровье и саму жизнь. В таких условиях мы все работали. И кто во всем этом был виноват – я до сих пор не знаю» (Ф. Д. Кузнецова, частное сообщение; Ларин, 2000).
И. А. Размахова начала работать на «заводе 25» в 1948 г. – сперва оператором, потом начальником смены отделения, а позже исполняла обязанности заместителя начальника смены завода. Имеет официально учтённую дозу внешнего радиационного облучения более 700 бэр. Приводим её воспоминания о неизвестных радиационных авариях на радиохимическом заводе и анализ их причин:
«Те радиационные аварии, о которых вам рассказывают мои коллеги, происходили не по вине конкретных людей, а из-за несовершенства оборудования и неотработанной технологии. Люди, проектировавшие наше производство, рассказывали мне о том режиме, в котором они работали. Проектировщики работали до двенадцати часов ночи, затем их отпускали домой отдохнуть, а в восемь утра они должны были снова находиться на рабочем месте. У людей накапливалась усталость и в проекте появлялись ошибочные решения. Кроме того, преимущественно проектированием занималась молодежь, не имевшая производственного опыта. Поэтому в целом проекты технологических схем были весьма несовершенны.
Другая причина аварий заключалась в том, что технологические схемы проектировались в то время, когда многие радиоактивные элементы существовали в микро количествах, полученных в лабораториях. Это были миллиграммы и граммы, а в заводских условиях были тонны «продукта». Не всегда продукт в малом количестве вёл себя так же, как в большом.