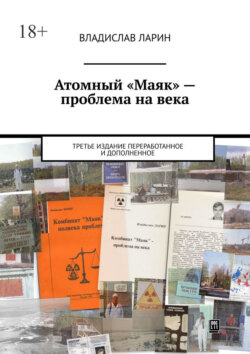Читать книгу Атомный «Маяк» – проблема на века. Третье издание переработанное и дополненное - Vladislav Larin - Страница 20
Глава 3. Неизвестные радиационные аварии на «Маяке». «Неучтённый контингент»
3.1. Почему это не обсуждалось прежде
Оглавление3.1.1. Новые подходы и определения
Мы уже говорили о том, что появляющиеся в последнее время публикации позволяют говорить о значительно большем числе радиационных аварий на «Маяке» по сравнению с теми, которые обсуждались на заре «эпохи гласности» – в начале девяностых годов. В изданных небольшим тиражом воспоминаниях ветеранов плутониевого производства и в их устных рассказах, в работах независимых исследователей, в некоторых официальных публикациях появляются интересные сведения на эту тему. Данная глава посвящена систематизации известных сейчас фактов относительно подобных радиационных инцидентов. Некоторые из них уже упоминались в публикациях, другие существуют лишь в рукописях и в устных воспоминаниях ветеранов.
Всё меньше остается людей, представляющих поколение, создавшее атомную отрасль советского военно-промышленного комплекса. Поэтому любое их свидетельство и воспоминание интересно для исследователей проблемы. Конечно, некоторые из подобных данных могут быть неточны или даже намерено искажены с учетом требований сегодняшней ситуации. Однако, в целом они представляют собой уникальный материал для исследователей.
Каковы же причины проявившейся в последние годы большей открытости ветеранов и руководства «Минатома» в области радиационных аварий на «Маяке»?
Во-первых, ветераны плутониевого производства, привыкшие за десятилетия секретности никому ничего не рассказывать о своей работе, начали понимать, что практически остались без материальной помощи того государства, ради которого жертвовали здоровьем, а порой и жизнью они сами, их близкие и знакомые. Им приходится доказывать, что они получили сотни бэр облучения организма и утратили здоровье не по собственной «халатности», а по причине новизны производства и спешки, в которой проводились все работы, связанные с созданием атомной бомбы. А это значит, им приходится говорить о реальном числе радиационных аварий разного масштаба, в которых они участвовали.
Во-вторых, после Чернобыльской катастрофы наконец-то появилось официальное определение – что же следует считать радиационной аварией. Прежде его просто не существовало. В результате стало ясно, что все те происшествия, которые прежде именовались «разливами», «утечками», «россыпью», «выбросами», «хлопками», «очагами» и т.д., на самом деле попадают под определение радиационной аварии. Само же определение в последней редакции выглядит следующим образом:
«Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могут привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды»6.
В-третьих, руководство «Минатома» и комбината «Маяке» начинает понимать, что нет смысла скрывать сведения о былых авариях. Министерство давно располагает списками большинства аварий, имевших место на атомных предприятиях нашей страны, но следуя традициям секретности, старалось их не публиковать.
3.1.2. Письмо с «Маяка»
Мне впервые довелось побывать на «Маяке» в апреле 1993 г., готовя ряд публикаций о последствиях для здоровья людей и окружающей среды произошедших там радиационных аварий. Я встретил полную открытость руководства предприятия. Мне показывали многие производственные цеха, помогали встретиться с интересующими меня специалистами, разрешали фотографировать. Но когда я попытался в неофициальной обстановке встретиться с ветеранами производства, то почувствовал их настороженное отношение к себе. Они не хотели рассказывать о своей прошлой работе, об авариях и о полученных радиационных заболеваниях.
Письмо Виктора Сергеевича Сладкова (1997)
Разумеется, я понимал такое поведение – в течение десятилетий в сознание людей внедрялось представление о совершенной секретности плутониевого производства. Даже работники одного и того же производственного подразделения за пределами промзоны старались никогда не говорить о своей работе. Это запрет был в подсознании. Если о каких-то разговорах о своей «совершенно секретной» работе не донесёшь госбезопасности ты сам – другие донесут на тебя. Это было нормой советской жизни… Поэтому я был обрадован, когда после публикации книги «Комбинат „Маяке“ – полвека проблем» (Москва, 1996) мне пришло письмо от группы ветеранов предприятия. Они приглашали меня приехать для подробного разговора о действительном количестве аварий на «Маяке».
Вот что писал мне по поручению сотен ветеранов комбината «Маяк» Виктор Сергеевич Сладков, проработавший без малого 50 лет на радиохимическом «заводе 235»:
«…В печати (и, в частности, в Вашей книге) описываются только три радиационные аварии на ПО «Маяк». Имеющийся у администрации ПО «Маяк» список содержит десятки радиационных аварий. Не кажется ли Вам странным наличие при этом тысяч лучевых больных? Не стыкуются цифры количества радиационных аварий с количеством пострадавших.
На самом деле только на радиохимическом «заводе 25» (так называлась та часть производства, где начиная с 1948 г., производилось растворение облученного в реакторе ядерного топлива в азотной кислоте с целью дальнейшего выделения из раствора «оружейного» плутония) произошли сотни радиационных аварий с тяжкими последствиями. В том числе была и самопроизвольная цепная реакция. Разгадка тайны несоответствия количества радиационных аварий количеству пострадавших кроется в режиме секретности и в случаях сокрытия их персоналом от вышестоящей администрации во избежание дисциплинарных или судебных наказаний.
Вторая причина заключается в том, что прежде не было официального определения радиационной аварии. Впервые оно появилось только после аварии на Чернобыльской АЭС, а современное определение было дано в 1996 году, спустя полвека после пуска первого промышленного ядерного реактора на комбинате «Маяк». До того, как было сформулировано сегодняшнее определение, все радиационные аварии у нас именовались «разливами», «проливами», «утечками», «россыпью», «выбросами», «очагами», «хлопками» и т. д. И не имело значения, что в большинстве случаев речь шла о твердых, жидких, газообразных и аэрозольных радиоактивных веществах, над которыми был потерян контроль…».
Получив это письмо, я несколько раз побывал в Озёрске, где встречался с ветеранами «Маяка» и записал десятки их рассказов. Там я познакомился практически со всеми опубликованными к тому времени воспоминаниями ветеранов. Поговорил с руководителями предприятия, отвечающими за вопросы ядерной и радиационной безопасности производства. Познакомился с официальными документами, освещающими некоторые радиационные аварии. На основании всех собранных сведений подготовлена эта глава.
Личные записки-воспоминания В. С. Сладкова о своей работе на радиохимическом «заводе 25» и о его борьбе за признание у него заболеваний, связанных с радиацией и облучением в процессе работы, приведены в Приложении 10.
6
Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (последняя редакция от 18.03.2023)