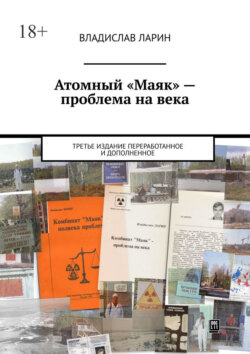Читать книгу Атомный «Маяк» – проблема на века. Третье издание переработанное и дополненное - Vladislav Larin - Страница 21
Глава 3. Неизвестные радиационные аварии на «Маяке». «Неучтённый контингент»
3.2. Аварии на реакторах
Оглавление3.2.1. Условия труда персонала на «реакторе А»
Говоря о радиационных авариях в период становления плутониевого производства, следует помнить, что такого слова не было в языке атомщиков. Впрочем, также не существовало сегодняшних привычных терминов – «реактор», «плутоний», «облученное ядерное топливо», «радиоактивность» и многих других. Существовали «аппараты», имевшие каждый свой номер и производимые этими аппаратами «продукты» – тоже с номерами. Облученное в реакторе топливо на производственном жаргоне называли «блоками» или «блочками». Вся радиоактивность называлась «грязью». Запомнив все это, давайте вернемся на пятьдесят лет назад – в первые дни и месяцы работы комбината «Маяк».
На «реакторе А» основные дозы получались персоналом в центральном зале, возле бассейнов-хранилищ в которых выдерживались облученные ТВЭЛы и при транспортировке облученных урановых «блочков» к местам дальнейшей переработки. Уже в первые дни работы реактора были составлены картограммы радиационных полей, служившие основой для определения допустимого времени нахождения персонала в разных помещениях. Но спешка и непрерывно возникавшие «непредвиденные обстоятельства» заставляли людей нарушать инструкции.
Дело в том, что на первых порах применялись материалы, не прошедшие проверки на предмет устойчивости к коррозии в условиях радиации. Поэтому происходившие в реакторе процессы вызывали ускоренную коррозию используемых материалов. Например, сейчас алюминиевые оболочки «блочков» и ТВЭЛов анодируют для повышения их коррозионной устойчивости. На первых порах этого не делали, что приводило к ускоренному разрушению оболочек и спеканию «блочков» с массой графита, составлявшей основную часть реактора. Разрушение алюминиевых труб в «активной зоне» реактора и оболочек урановых «блочков» приводило к появлению радиоактивности в воде, охлаждающей «активную зону» реактора. Кроме того, что загрязненная радионуклидами вода сбрасывалась в окружающую среду, она ещё попадала на графит, служащий замедлителем нейтронов в «активной зоне» реактора. В результате цепная реакция в реакторе прекращалась. Жизненно важный для государства процесс наработки плутония останавливался. Приходилось сушить графит, заменять разрушившиеся каналы, перегружать урановые «блочки». На все эти работы уходило много времени, а персонал при их выполнении получал очень высокие дозы облучения.
Как правило, спекание оболочек урановых «блочков» с графитом приводило к прекращению подачи охлаждающей воды. Охлаждение реактора прекращалось, часть «активной зоны» расплавлялась и стержни застревали в толще графита.
Такая авария произошла в первый же день работы «реактора А» на проектной мощности. Случилось это 19 июня 1948 г., когда на площадке влагосигнализации начальником дозиметрической лаборатории была зарегистрирована повышенная радиоактивность воздуха – превышение составило более 300 «доз». Как выяснилось, в одном из каналов реактора прекратился приток охлаждающей воды и произошло частичное расплавление «активной зоны». Реактор был остановлен и до 30 июня производились работы по очистке каналов от сплавленных частей графита, урана и алюминиевых оболочек (Круглов, 1994).
Менее чем через месяц авария повторилась – следующее частичное расплавление «активной зоны» произошло 25 июля 1948 г. Для ремонта требовалось остановить реактор и прекратить наработку плутония. Руководители проекта сочли такое промедление недопустимым и было принято решение о прочистке каналов в активной зоне реактора без его остановки. Сейчас даже представить трудно, что люди вручную прочищали каналы работающего реактора. Разумеется, это привело к сильному загрязнению помещений и переоблучению персонала. Во время ремонтно-восстановительных работ режущий инструмент охлаждался водой. Кроме того, вода использовалась для снижения выбросов в центральный зал реактора радиоактивных аэрозолей и пыли из прочищаемых ячеек. Это усилило коррозию элементов активной зоны и в конце 1948 г. началась массовая протечка труб, что вызвало намокание графита. Работать в таких условиях реактор не мог и 20 января 1949 г. он был остановлен для капитального ремонта (Круглов, 1994).
Необходимо было выгрузить облучённые высокоактивные урановые «блочки» из реактора и только после этого приступить к ремонту. Для этого, согласно технологической схеме, облучённые «блочки» требовалось протолкнуть в расположенное под реактором специальное помещение, откуда они должны были направляться на переработку. Из-за крайне высокой радиоактивности извлечённых из «активной зоны» «блочков» транспортировку предполагалось осуществлять без участия людей. Но, поскольку другой партии урановых «блочков», готовых для загрузки в «активную зону» после ремонта в то время приготовить не успели, руководством проекта было принято решение сохранить облучённые в реакторе высокоактивные «блочки», чтобы после ремонта загрузить их обратно.
По оценке ведущего специалиста атомного проекта Ю. Б. Харитона, для проведения полноценного ремонта реактора в нормальных условиях требовалось не менее одного года. Таким временем на ремонт реактора руководство атомного проекта не располагало, поэтому было принято решение о проведении «ускоренного» ремонта. «Ускорение» ремонтных работ было достигнуто благодаря извлечению облученных «блочков» вверх – в помещение центрального зала реактора с последующей их загрузкой после окончания работ обратно в «активную зону». Всего было извлечено, а затем помещено обратно 39.000 урановых «блочков». Эта операция привела к переоблучению всего мужского персонала объекта, привлечённого к работе. В то же время такой способ ремонта позволил уже 26 марта 1949 г. начать вывод реактора на проектную мощность (Круглов, 1994). То есть вместо двенадцати месяцев ремонт был закончен за два месяца.
Кстати, Ж. А. Медведев считает, что на этих работах неизбежно должен был использоваться труд заключённых. Прямых упоминаний об этом найти не удалось, однако он считает, что переоблучение работников было слишком велико, если бы им не помогали заключённые. Едва ли руководители атомного проекта были готовы пожертвовать всем персоналом единственного в то время реактора на «Маяке». Проверенных спецслужбами и подготовленных для этого секретного дела людей, как и злополучные урановые «блочки», заменить было нечем (Медведев, частное сообщение, 2000).
Неприятности продолжались ещё несколько лет. Одной из главных проблем оставалось застревание облучённых «блочков» в каналах «активной зоны» реактора, после чего их приходилось проталкивать вниз для разгрузки специальным металлическим стержнем – «пешнёй» или «шуровкой» длиной около 25 м и диаметром 32 мм. Трое рабочих, склонившись над каналом из которого било жёсткое излучение, работали «пешнёй» – проталкивая вниз застрявшие свежеоблучённые «блочки» (Круглов, 1994).
Другой проблемой была транспортировка контейнеров с облучёнными «блочками» от реактора на радиохимический завод. Теоретически, она должна была осуществляться без участия людей, но в реальных условиях тележки с «блочками» нередко застревали и рабочим приходилось спускаться под реактор и вручную устранять неисправности тележек, на которых лежало только что выгруженное из реактора облучённое топливо. В результате персонал получал очень высокие дозы облучения. Бывали и смертельные случаи. В первые годы работы реакторов более 32% персонала получили дозы от 100 до 400 бэр. У некоторых работников полученные дозы были гораздо больше (Круглов, 1993).
3.2.2. Борьба с «закозлением» на «реакторе А»
Как уже говорилось, наиболее частыми и опасными с радиационной точки зрения авариями на реакторах-наработчиках (особенно на первом из них – «реакторе А») было застревание тепловыделяющих стержней стержней с «блочками» в толще графита. Извлечь распухший стержень в соответствии с технологической схемой становилось невозможно и возникала опасность расплавления активной зоны. Называлась такая авария «козёл». Её последствия преодолевали разными способами – долбили канал длинным металлическим стержнем «шуровкой», высверливали образовавшийся сплав урана и алюминия с графитом с помощью буровых установок. Делалось всё вручную – разумеется, радиоактивной «грязи» вокруг было много. Тогда представление о влиянии радиации на организм человека имели лишь маститые учёные. Большинство же руководителей проекта и работников – от персонала нижнего звена до людей в генеральских погонах считали, что раз радиация не ощущается органами чувств, значит её нет.
Интересный эпизод вспоминает В. И. Шевченко:
«Для разбора причин «закозления» и руководства работ по ликвидации последствий случившегося прибыл первый заместитель начальника Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР (ПГУ при СНК СССР) генерал-майор Авраамий Павлович Завенягин (1901—1956), взявший общее руководство на себя.
Ремонтные работы велись на работающем реакторе бригадой слесарей под руководством специалиста «Московского института бурения». Несмотря на принятые меры предосторожности и применение имевшихся в то время весьма несовершенных средств защиты, избежать переоблучения персонала не удавалось. Радиоактивное излучение не имело ни цвета, ни запаха и к нему на первых порах было весьма пренебрежительное отношение. Специалистам дозиметрической службы приходилось вести постоянную борьбу с нарушителями, пренебрегавшими правилами техники безопасности. И в первую очередь – с высокопоставленными руководителями.
В центральном зале «реактора А» бригадой слесарей велись работы по расчистке «закозлившегося» канала 20—18. Зашёл в лабораторию дежурный инженер-дозиметрист и сказал, что надо что-то предпринимать – руководитель предприятия Борис Глебович Мазруков (1904—1979), прибывший генерал А. П. Завенягин и другие участники работ ежедневно находятся в центральном зале в личной одежде и обуви. Выслушав его, начальник дозиметрической службы пошёл в центральный зал. А. П. Завенягин в генеральской форме, в личной обуви сидел на стуле в центре реактора и наблюдал, как ведутся работы по расчистке ячейки. При этом он доставал из кармана шинели мандарины и тут же их ел. На мое замечание, что в личной одежде здесь находиться нельзя, а есть – тем более, он ответил, что ничего с ним не случится. Рядом стоял директор завода Б. Г. Мазруков, тоже в личной одежде и обуви» (Творцы ядерного щита, 1998).
Раз уж «верховное» руководство предприятия столь небрежно относилось к технике безопасности – что говорить об остальном персонале. Пришлось обратиться к И. В. Курчатову. Тот дал команду дозиметристу измерить уровни радиоактивности в доме Б. Г. Мазрукова. Оказалось, что загрязнение во много десятков раз превышает допустимые нормы даже для того времени. После этого жена Мазрукова убедила мужа переодеваться на работе.
Всего же за время работы по расчистке только двух каналов 17—20 и 20—18 слесари получили облучение от 26 до 108 Р.
3.2.3. Проблемы с тяжеловодными реакторами
Продолжалось развитие реакторной базы «Маяка», происходили новые аварии. В октябре 1951 г. на проектную мощность был выведен первый в СССР тяжеловодный «реактор ОК-180». В реакторах этого типа в качестве замедлителя нейтронов использовался не графит, а так называемая «тяжелая вода».
Как и на уран-графитовом «реакторе А», аварии на тяжеловодном «реакторе ОК-180» начались в первые же дни его работы. Первая крупная неприятность с этим реактором произошла уже при проведении пусконаладочных работ. Во время испытания второго контура реактора, заполненного дистиллированной водой, в теплообменниках были обнаружены протечки воды. Из-за вибрации, возникавшей при протоке воды на большой скорости через теплообменники, нарушалась их герметичность – происходило разрушение металла. После ремонта предполагалось заполнить охладительный контур реактора «тяжелой водой», но прежде требовалось проверить его герметичность, промыть и осушить. Для этого были использованы две цистерны технического спирта, который затем был слит в реку Течу, рядом с которой, в двухстах метрах от озера Кызылташ, был расположен «реактор ОК-180» (Круглов, 1994).
В ноябре 1951 г. температуры воды в озера Кызылташ приблизилась к 0 градусов С. А именно она циркулировала в первом охладительном контуре реактора. В результате произошло замерзание «тяжелой воды» (температура замерзания +3,8 градуса С), охлаждавшей второй контур. Реактор был остановлен, однако из-за остаточного выделения тепла урановыми «блочками», «тяжелая вода» закипела. Поскольку всё научное и техническое руководство «объекта» оказалось поблизости, были приняты срочные меры и эта аварийная ситуация не переросла в радиационную аварию (Круглов, 1994).
Наиболее серьезная из известных радиационных аварий произошла в системе разгрузки урановых «блочков» на этом реакторе. При выгрузке из «активной зоны» они застряли в системе разгрузки – на гидротранспортёре. Остаточное выделение тепла облученными «блочками» привело к их расплавлению, что вывело из строя всю систему разгрузки. Как преодолевались последствия этой опаснейшей радиационной аварии – не известно. Известно лишь, что после этого система разгрузки «реактора ОК-180» была изменена. Теперь урановые «блочки» из «активной зоны» выгружались через верх реактора – в центральный зал, после чего транспортировались в бассейн для выдержки, а затем – на радиохимический завод. Все эти технологические проблемы привели к сокращению наработки плутония (Круглов, 1994).
«Реактор ОК-180» был остановлен в 1966 г., поскольку не удалось преодолеть течь «тяжелой воды», возникшую в январе 1965 г. Позже он был демонтирован (Круглов, 1994; Творцы ядерного щита, 1998).
27 декабря 1955 г. был введен в эксплуатацию второй тяжеловодный «реактор ОК-190», являвшийся развитием технологии, начатой «реактором ОК-180». Однако, на нем тоже не удалось избежать конструкционных просчётов. Вскоре после пуска началась течь «тяжелой воды» из реактора, преодолеть которую не удалось в течение всех 10 лет его эксплуатации.
«В результате протечек „тяжелой воды“, недостаточной защиты верха реактора, невысокого качества загружаемой продукции, частых смен загрузки с целью выполнения получаемых заданий, создавалась неблагоприятная дозиметрическая обстановка на реакторе. Радиоактивный фон всегда был выше регламентируемой нормы» (Творцы ядерного щита, 1998).
Реактор ОК-190 был остановлен 8 ноября 1965 г.
В апреле 1966 г. был выведен на проектную мощность третий реактор из этой серии – «реактор ОК-190М». Уже осенью того же года была обнаружена течь «тяжелой воды» из его корпуса. Вытекавшую воду собирали и возвращали обратно. В 1975 г. на реакторе начался массовый выход из строя ТВЭЛов. Они распухали, зависали в технологических каналах и разрушались. Пришлось досрочно перегружать активную зону. Течь тяжелой воды продолжала усиливаться. Так как дальнейшее возрастание её потерь было непредсказуемо, возникло опасение более серьезной аварии в случае невозможности поддерживания необходимого уровня тяжелой воды в реакторе. Могло произойти ее вскипание с последующим расплавлением ТВЭЛов. В апреле 1983 г. произошла разгерметизация внутренней стенки бака водяной защиты. Вытекающая вода смешивалась с протечками «тяжелой воды», что ещё более усложняло работу. В 1986 г. «реактор ОК-190М» был наконец остановлен (Творцы ядерного щита, 1998).
На этом же «заводе 37» были построены два реактора нового типа – «Руслан» и «Людмила», обеспечивающие более надёжную их эксплуатацию. Они работают до настоящего времени.
3.2.4. «Реактор АИ» и реактор АВ-3»
Кроме проблем с тяжеловодными реакторами, на «Маяке» продолжались аварии и с уран-графитовыми реакторами. Как и на «реакторе А», на «реакторе АИ» в первые годы случались аварии – в том числе происходило застревание тепловыделяющих «сборок» с образованием «козлов». Из-за разноса «активности» в системах контроля и в производственных помещениях, радиационная обстановка после этих аварий была очень тяжелая, что приводило к систематическому переоблучению персонала. Об этом пишет в своих воспоминаниях М. Кожанов:
«Стало очевидным, что дальнейшая эксплуатация „АИ“ в такой ситуации невозможна. Единственным выходом была замена части „активной“ графитовой зоны, проработавшей несколько лет, на новую. Для этой операции нужно было снять верхнюю биологическую защиту и вытащить высокоактивные графитовые кирпичи, заменив их новыми. Трудно представить себе более опасную и сложную операцию, к тому же не имевшую аналога в практике реакторной технологии. Эта фантастическая операция была осуществлена в 1956 г. силами заводчан. Но это были уже не 1948—1949 годы, когда многие проблемы решались „на ура“ и решающим фактором были отчаянная смелость и преданность работе. В этот раз разработали специальные мероприятия, предусмотрели все возможные неожиданности, учли меры по защите работающих, что помогло избежать сильного переоблучения» (Творцы ядерного щита, 1998).
В 1952 г. был запущен «реактор АВ-3», как и все предыдущие «аппараты», построенный в рекордно короткие сроки. В отличие от других реакторов данной серии, в качестве загрузки его ТВЭЛов использовался слабо обогащенный уран. Об этом также пишет М. Кожанов:
«И опять повторилась история как на «реакторе А» – неиспытанные новые ТВЭЛы начали «распухать», и, как следствие «зависать» в каналах при разгрузке. При этом их оболочки повреждались, что приводило к загрязнению осколками деления трактов, шахт и бассейнов выгрузки. Положение усугублялось течью каналов.
Новый реактор работал нестабильно, число остановок за год превысило 1.200. Нехватка ТВЭЛов со слабо обогащенным ураном вынуждала перекомплектовывать ТВЭЛы из извлеченных из каналов реактора «блочков» для повторного использования. Такие операции не обходились без значительного повышенного облучения персонала.
Прежде, в первые дни его работы, подобное проходило на «реакторе А». Тогда урана катастрофически не хватало и из «аварийно» вытащенных каналов ТВЭЛы лично отбирал И. В. Курчатов для повторной загрузки в реактор. Мы, молодые работники, с удивлением смотрели на его спокойную работу – как будто он отбирает и сортирует не весьма активные «блоки», а нежные персики. Так, не боясь большого фона, работал великий ученый, так работал впоследствии весь персонал реакторов, радиохимического и химико-металлургического объектов.
К счастью персонала, новый режим работы на реакторе продолжался недолго и был заменен привычным – на ТВЭЛы из природного урана. Привычный режим, однако, принес не много облегчения – вскоре появились четыре «козла» за короткий промежуток времени, масса зависаний ТВЭЛов и течь труб. Это ещё далеко не полный перечень прелестей, которые испытывал персонал» (Творцы ядерного щита, 1998).
Каковы были дозы облучения персонала при проведении работ, связанных с ликвидацией всех описанных аварий – больших и малых – неизвестно. Но очевидно, что они были высокими.