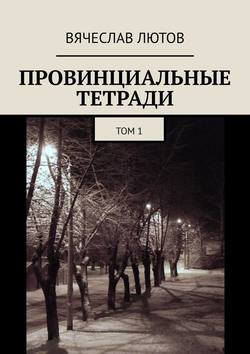Читать книгу Провинциальные тетради. Том 1 - Вячеслав Лютов - Страница 10
ИЗ ДНЕВНИКА (1988—1990)
Оглавление* * *
На поэзии всегда лежит печать утопии – она желает видеть мир лучшим, чем он есть на самом деле; она придумывает этот мир, подчас даже не напрягаясь. Но все же: лучше быть утопистом-литератором, чем утопистом-политиком.
* * *
Я еще долго буду абстрактным человеком; мои мысли еще долго будут не здесь, а там. И это, должно быть, хорошо…
* * *
Приятно, когда твои стихи кому-нибудь нравятся. Я уже всех замучил своей поэтической тетрадкой. Вот, даже песню написал: «Лето проходит…» А впрочем, я не пишу о своей жизни. Мне нет резона показывать всем ее незначительность и глупость. Вообще-то, и мысли тоже не следовало бы записывать. Да, я – тип с несложившимся мировоззрением.
* * *
Ко всеобщей радости, империя, «о необходимости которой так долго говорили», треснула и разошлась по швам, и в небо взметнулся черный флаг анархии и беспорядка. Пожалуй, скоро поэты начнут менять свои стихи на ножи… Нет, не знаю, что творится с этой страной. Она наливается кровавым соком, гниет, словно сорвавшееся с ветки яблоко, спелое, но треснувшее, ударившись о холодную землю. Я чувствую запах спирта, и даже его приторный вкус во рту. Но я – никто, простая песчинка на размокшей проселочной дороге; слышу, как из-за горизонта катится полуразвалившийся тарантас и через несколько глотков свежего воздуха он втрамбует меня еще глубже в колею, еще сильнее… Однако, я бы не хотел начинать ни с бессмысленного пессимизма, ни с глупого оптимизма, ни с никчемного спокойствия и ничем не оправданного равновесия. Я начинаю путь, как мне начинается…
* * *
Литература – то прибежище, где будет все, но ничего нельзя будет потрогать руками.
* * *
Кому они нужны – пропитые одинокие поэты, задавленные нищетой и горечью, не нашедшие приюта в ответной любви, мечущиеся от стены к стене в пустой и грязно комнате с облезлым столом и продавленной кроватью? Наверное, никому… Кроме Бога. Непризнанные, но непокоренные…
* * *
Все мои литературные изыскания нельзя назвать «великой целью» и тем более назвать их гениальными, ибо гением человек может быть только после своей смерти… а я живу покамест.
* * *
Черный коридор, в конце которого горит яркий свет… говорят, что так уходит в небо душа… Не знаю, не проверял.
* * *
В душе полный кавардак, словно в ней черти устроили повальный обыск и все перевернули вверх дном – мне страшно думать об этом человеке, но не думать не могу, – мне кажется. Что надо мной сверкнула яркая молния. И даже закрыв глаза, я ясно вижу ее ломаные очертания и чувствую ее ослепительность и… мгновенность.
* * *
Что ж, если есть мост, то по нему нужно идти. Даже если он ведет в никуда, то я мечтаю хоть раз увидеть ничто.
* * *
Человек воистину нелеп тогда, когда боится признаться в своей нелепости. Мудрец – это дурак, осознавший, что он – дурак.
* * *
Какой чистый снег за окном! Я чувствую его ровное размеренное дыхание – уже полночь, и снег таинственно серебрится под печальным сиреневым лунным светом – луна медленно плывет в чернилах зимнего неба. Мне не хватает тонкой мягкой кисточки, чтобы, обмакнув ее, нарисовать гравюру самого чистого, времени года. Снег скрипит под ногами запоздалого прохожего, и за ним след в след поспешает рождественский праздник – вновь яркими огнями озарится веселая подвыпившая улица, зазвенят частушки и песни, и всю ночь до утра будет веселиться народ, будет визжать гармоника и литься вино. В новогоднем вальсе закружатся хрустальные снежинки и, задевая друг дружку, будут звенеть и переливаться радужными искорками под закопченным фонарем. Они будут падать мне на шапку, на воротник, такие кристально-чистые и беззащитные, – достаточно лишь одного теплого вздоха, чтобы тонкие ювелирные грани стали обыкновенной каплей, которая тут же застынет, зацепившись за мех шубы. Они, как люди, – и мне кажется, что внутри каждой снежинки бьется ледяное сердечко, стучит, стучит, как Буре-часы – и время тает… И каждая снежинка – это всего-навсего секунда, даже доля этой секунды. Я смотрю вокруг. Господи! Как много застывшего в снеге времени! Его хватит на всех, его будет слишком много для меня, хотя… Рано или поздно придет весна, и все растает, исчезнет, станет белым прозрачным облаком, что поплывет над бескрайней русской равниной, оставляя загадочную тень на ветках берез, очнувшихся от зимнего сна; в журчании первых весенних ручейков, в черных лысинах лесных прогалин и на тусклом насте хлебных полей.
Как я хочу, чтобы эта зима была белой! Ярко-белой… ослепительно-белой! Но что-то мешает, я знаю – предчувствие того, что вскоре, как бы я того не хотел, белый серебристый снег заалеет от безвинно пролитой крови, почернеет под подошвами безумной толпы, несущейся все уничтожать, рушить, убивать. Неужели любой век должен начинаться с крови и слез? – быть может, это – естественный ход истории, но тогда: как она глупа!
* * *
Я сотворю для себя человека, наряжу его в красивое платье, заставлю говорить легко и непринужденно – и буду посвящать ему стихи (вернее, ей – этому человеку).
* * *
Попов – странный человек. Я чувствую его потенциал любить лишь одного человека и никого больше, даже если он и говорит, что ненавидит его.
* * *
Попов – человек домашний. Я – человек ветреный. Это нас и роднит.
* * *
Притча: Одного путника остановили крестьяне. «Куда ты идешь?» – спросили они. «Важна не цель, а путь», – тихо ответил он. «И зачем же тебе нужен этот путь?» – не поняли крестьяне. «А зачем вам нужна земля?» – вопросом на вопрос ответил путник. «Чтобы жить» – «Чтобы жить…»
* * *
И вот аллегория вечного вопроса: а зачем Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его?..
* * *
Воспоминания бывают разными, но всегда – бесполезными, ибо вернуть ничего нельзя…
* * *
В большинстве своем авангардисты сами не знают, чего хотят, поэтому скрывают свое название за формальными изысками. Из всего этого и образуются развалины литературы. Но рано или поздно они обязательно найдут нечто новое, возникшее на руинах. Мне кажется, что я их понимаю… своим сентиментальным умом.
* * *
Хорошенькая… я уже привык к тому, что хорошенькие на меня не смотрят и не замечают, а если и замечают, то надежно скрывают, то смеются над моей худобой, сутулостью и – в угоду кривым ногам и ненужным ростом, – еще и над сентиментальностью.
* * *
И что, собственно, нужно человеку для счастья? Нет, для жизни? – Дом и Бог… Даже если этот дом на колесах? – даже если…
* * *
Мы с Поповым – порядочные дураки, и я в больше степени. Хорошо быть степенным, не так ли?
* * *
Прогуливались с Поповым по Митрофановскому кладбищу. Смолистые сосны и густое вечернее небо. «Мертвые молятся за нас…» Вот здесь меня и похороните, когда умру.
* * *
В кармане лишь копейки, но на нее еще можно купит коробок спичек, чтобы спалить мир.
* * *
Все чаще и чаще ощущаю провалы в памяти, и еще – в поэзии. Слово словно уходит неизвестно куда, без цели, без красоты… Оно было прекрасно во сне, но снов я никогда не видел и не помнил. Хотя… Был один страшный сон в далеком детстве, после чего я уже ничего не мог видеть ночью… Мы с мамой бежали мимо страшных красных домов с дымящимися окнами и расплывчатыми крышами, мимо хоккейной коробки, в которой кипел лед; нас преследовали склизкие, как сморчки невиданных размеров, люди – с диким смехом с выкатывающимися глазами; они тянули свои руки-змеи. Такая ладонь провела мне по лицу, как ужалила, – и все обожгло, и я закричал. Я хотел, чтобы мы убежали от них, мимо мусорной свалки, где горела бумага; между общежитиями, из окон которого неслась дикая музыка. Мы бежали по узкой тропинке между заборов, и вдруг остановились, увидев свои преследователей и спереди, и сзади…
* * *
Вообще, все построенное в России за последние десятилетия – на костях…
* * *
Розанов: нужно разрушить политику, нужно создать аполитичность. Да, но во всем и всегда были виноваты именно аполитичные.
* * *
Хотелось бы иметь маленькую дачу в ста метрах от соснового бора, с широкой печкой и матрацем на деревянных полатях, а вместо подушки – овчиный тулуп. Как раньше. Так теплее.
* * *
Сижу и думаю о жизни. В последнее время она превратилась в злобное рычащее существо с едва прорезавшимися зубками.
* * *
Пора смотреть не на Запад, а на Север – туда мы попадем быстрее: и демократы, и социалисты, и народнофронтовцы, и монархисты, и коммунисты, и анархисты, и христиане, и я, не причисливший себя ни к кому, и Попов за свою религиозность, и Клепиков за свое стремление выехать во что бы то ни стало… Кстати, если нас посадят в одну камеру, то мы напьемся до свинячьего визга – за встречу. Ведь братья…
* * *
Только недалекие личности поливают грязью и доказывают, что все в нашей стране нужно вымаливать, выплакивать… унижаться, просить.
* * *
Все мысли перемешались, как мелочь в кармане, да и то не в моем…
* * *
Старый друг лучше новых двух. Правильная пословица: лучше иметь пятьдесят старых друзей, чем сто новых…
* * *
Литература не обязана быть доказательной, истинной, умной – ее удел: чувства, а стало быть, взбалмошность, тоска, переживания, счастье, неразумность, одержимость. Короче, все что угодно и что не угодно – тоже.
* * *
Вы знаете, что самое ужасное в человеке? Вот и я не знаю. Наверное, то, что будучи сотворенным по образу и подобию божьему, он позволяет себе такие разные мерзкие штучки, от которых даже черти открещиваются.
* * *
Нужно уходить, бежать. Но куда? К Юрке Попову в Миасс – в страну вековых сосен, жестяных рукомойников и свежевыбеленных печей.
* * *
Анна Арс. Типичный представитель пост-символизма в эпоху тотального декаданса. Космические сферы, гороскопы, магические числа, «харе рама, харе кришна». О чем?
* * *
С.Ч. подарила мне акварельные краски… Что вы теперь делаете? – пишу акварели. Как Макс Волошин. Правда, он перед этим написал «Путями Каина», а я не сотворил ничего, кроме двенадцатистрочного «Ремонта».
* * *
Какая замечательная поза – непризнанный гений! И все рыдают у крышки гроба и говорят: «Ах, каким он был замечательным поэтом!»
* * *
Хочется писать ни о чем, просто писать, не думая, не выбирая сюжета; не… не… Хочется писать о том, как дождь освежил улицу, как солнце заиграло в окнах домов, как дым от сигареты струится над кустом сирени, как «божие одуванчики» сплетничают у подъезда, как сонные птицы еле-еле перелетают с ветки на ветку, как играет музыка в комнате, как горит газ на кухне, как щелкает печатная машинка, как шелестит в листве ветер, как обнимается парень с девушкой, как хлопает входная подъездная дверь, как в голову лезут никакие мысли, как… как…
* * *
Очень сложно писать, когда кто-то сдерживает руку, или, наоборот, подталкивает.
* * *
Весь день с самого утра с неба падали тяжелые камни. Серые, они стучали по крыше и скатывались по водостокам. К вечеру ими было завалено все вокруг – и дома, и деревья, и улицы, и трамвайное кольцо… Кроме того, поднялся ветер и камни стали разлетаться в разные стороны…
Я пил чай и разговаривал со своим другом Юрой. Он такой же дурак, как и я, а потому мы нашли общий язык. Этот язык назывался русским и говорили мы о поэзии.
Вообще-то, когда падают камни, стихи писать очень трудно – постоянно сбиваешься с ритма. А еще хуже тогда, когда за стенкой начинают пилить дрова бензопилой «Дружба» или разводить костер – дым из одного окна переползает в другое и приходится чихать, после чего уже невозможно вспомнить нашедшуюся только что рифму.
А так, в принципе, все нормально, если не учитывать того, что мы никому не нужны, и камни падают лишь затем, чтобы заглушить наш голос…
* * *
Шутка: в современной русской поэзии есть три великих поэта – я, Попов и все остальные…
* * *
У Стрижова в голове – маленькая дырочка, сквозь которую в него вливается «энергия далеких миров». И антенна, наверное, тоже есть…
* * *
Глеб Успенский сошел с ума, его брат Николай спился, «грустный солдат» Всеволод Гаршин выбросился в лестничный пролет, Николай Гумилев был расстрелян, Александра Блока сгноили в болезни, Осип Мандельштам сгинул в лагерях… Дико! Прав Вл. Ходасевич: «История русской литературы есть история уничтожения русских писателей».
* * *
Коммунистов вообще надо гнать в шею…
* * *
Вся прелесть литературы – в совокупности простого и непонятного.
* * *
Зачем Эффен хочет бежать отсюда? Там он будет никто. Обыкновенный русский эмигрант, «заскорузлый в своей ненависти к советской власти…» Мне страшно, что я могу его потерять. Я вообще всего боюсь. А М.Г. говорила, что в России не к чему привязаться… Каждому свое.
* * *
Профессия «доктор» нынче превратилась в профессию «лекарь» – лечить они толком не умеют, зато отнимают уйму времени – на медосмотры. Бездарности всегда отнимают уйму времени.
* * *
Я не имею права ни на кого – это единственная гарантия того, что и я свободен от каких-либо обязательств.
* * *
Из магазинов пропали сигареты. А я не могу без этой сизо-голубой струйки дыма. Что ж, привычка превыше всего!
* * *
Да, меня поженили… такая комсомольская свадьба… с песнями, водочкой и Вовкой Клепиковым в роли свидетеля.
* * *
В Екатеринбурге – уютные узкие улочки – в старой части. Теплые, осевшие, седые и древние… Хорошо. Хорошо, когда не списывается история за давностию лет.
* * *
Все закономерно: каждая станция обязательно предполагает следующую.
* * *
Незавершенное есть несуществующее.
* * *
Наташка. Она всегда улыбается и мне очень хорошо от ее улыбки. Говорит, что не умеет целоваться…
* * *
Барон упился. В умат. Я никогда не видел, как отравляются люди – и бегаю вокруг, и не знаю, что делать. Он, бледный как смерть, ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Окно в купе занавешено одеялом – темно, приторно-рвотно… А если бы он умер? Вовка шутит со своей жизнью, а это никогда хорошо не кончается. А бросишь пить – сойдешь с ума. Нервы не выдержат жизни такой. Вот, так и ходим по лезвию.
* * *
Без сигарет я становлюсь злым и противным: я могу говорить разные пакости, пошлости и грубости; я могу унизиться до окурка; правда, следом за этим любой правительственный муж, устроивший этот табачный кавардак, для меня – м…к. Спасибо Веничке за слово.
* * *
Никому не желал смерти, а вот теперь хочу – чтобы на каждом столбу висело по коммунисту (по Корнилову или Деникину – не помню).
* * *
Каждые сутки напролет – станции, полустанки, разъезды; пассажиры, билеты, просьбы, чай, мусор, качение, белье, скрежет реборд; жаркий полдень и холодная полночь, смех, суета, безвкусный обед, паровозная гарь, копоть, зола из титана, – и все это: лето, лето, лето…
* * *
Железнодорожное лето дает о себе знать – я становлюсь нервным и нетерпимым к людям, словно Тимон-человеконенавистник.
* * *
Рейсы на Север удивительны! Особенно, от Тюмени и дальше, через Тобольск. Тобольск – очень уютный, старый и печально известный город. Ссыльный. На обратном пути из Сургута мы бываем там в обед: весь перрон усыпан старушками с кошелками – предлагают вареную картошку, малосольные огурцы, кислые северные яблоки, теплые ватрушки и пирожки, и еще много чего… Все утопает в зелени, и кажется, что это вовсе не Север…
А дальше, ближе к тундре, места все пустыннее и глуше; вдоль дороги – мелкая сосновая поросль. Море свободы… Пыть-Ях вообще обошли за полчаса: несколько пятиэтажек, песок, и вокруг – пустота. Все открыто ветрам и заносам. По другую сторону вокзала – домики-вагончики из листового железа и фанерных щитов. Не богато… А еще дальше – Обь…
* * *
В поезде ничего не могу писать. Все слова вымерли, как ихтиозавры. Глупость, конечно.
* * *
Тем страшнее жить, чем чаще ты становишься ненужным, вроде аппендикса, или таким же неудобным. Тогда тебя вырезают.
* * *
«Сон кузнечика» – чистый и летний, паутинка, остановленное время, такое же как в «Письмах».
* * *
«Коробок спичек», на который я так возлагал свои надежды, рассыпался, сгорел – остался лишь неприятный дым того, что было когда-то написано. «Какие наполеоновские планы и какое ничтожное их воплощение!» Все. Это – пустое… И признаваться себе в том, что я действительно люблю это – не любить ничего, врать себе, тешить больное самолюбие.
* * *
Да, проще всего: «Я так вижу мир, и не мешайте мне его видеть именно таким!»
* * *
Часто ловлю себя на мысли о том, какие у меня замечательные бывают мысли…
* * *
В автокатастрофе погиб Виктор Цой…
* * *
Я думаю, зачем люди ведут дневник? Неужели им мало обычной жизни, чтобы еще создавать аналогичную на бумаге? Наверное, дневники – одна из глупостей человечества. И «Дневник писателя» – глупость, и «Уединенное» – такая же глупость… Не глупа, пожалуй, наука – она заумна. Вот, между глупостью и заумью и живет-хлеб-жует человек.
* * *
С каждым днем жить становится все веселее: мы вообще несказанные юмористы. Все смеются над нами, а нам еще веселее оттого становится. В каждом живет Жванецкий, Задорнов, Арканов, Иванов. И все это по соседству с Лениным и Сталиным. И вправду, чудесная компания!
* * *
Почему страшно жить в России? Белый кит заплыл в ее территориальные воды…
* * *
Свободен ли ветер? – нет, ибо ему приходится огибать идущих навстречу…
* * *
Бунин не принял революции и сгнил в эмиграции, и Толстой не понял революции, и Достоевский, и Куприн, и Ходасевич, и Короленко, и Розанов, и Соколов-Микитов, и Мережковский с женой своей Гиппиус, и Бердяев, и Франк… Все не поняли. Послушать советских ученых – все дураки…
* * *
Мы сидели с Кошелевым у меня; была еще какая-то дама из Оренбурга – его знакомая. Пили водку, вино. И говорили о моем «Коробке спичек».
«Понимаешь, я просто знаю тебя, и знаю, что просто так ты ничего писать не станешь, а потому ищу скрытый внутренний смысл. Читатель этого делать не станет, к тому же, ты сам не даешь никаких указателей на эти смыслы… Помнишь, я про них говорил на лекции?»
Конечно, помню – айсберг. Я еще предложил модель Франкла…
«Ты не обижайся, но у тебя получился обыкновенный соцреалистический рассказ. Этакая иллюстрация к учебнику по психиатрии, причем, весьма не точная».
Да, может быть – «нечто из жизни пироманов».
Кошелев привел пример из Хемингуэя. «Старик и море». А потом мы заговорили о Гаршине.
«Да я с первых же строк понял, кто стоит за этим рассказом. Но все дело в том, что в „Красном цветке“ Гаршин выполнил свою задачу – вырисовал мировое зло; а ты – нет…»
«Брось перо, возьми лопату»…
Так тоже иногда бывает.
* * *
Любая свобода тем и хороша, что ты никому не нужен и тебе не нужен никто.
* * *
По-моему, мы сейчас люди без национальности. Странные люди – без гордости, без родины, без жалости. Можно было бы упрекнуть Господа за то, что он позволил издеваться над целой страной, позволил выжать из русских все русское и сделал их некими тварями, кишащими в полуотапливаемых домах, на улицах, на площадях; злое быдловатое стадо, вечно нуждающееся в пастухе и плети; ленивое состояние души и разума, словно перестала существовать необходимость чувствовать и думать. И всегда, всегда такое глупое предчувствие, совсем не похожее на страх, а именно на предчувствие, на ощущение ужаса, «который всегда с тобой», а потому почти не замечаемый и лишь изредка прорывающийся наружу мерзкими мыслями.
Вы думаете, Россия больна? – ничуть. Она здоровее буйвола. Просто мы, временно населяющие ее, – хроники, эпилептики, параноики, шизофреники, дистрофики и олигофрены – ничем ей не обязаны. У нас нет никаких обязательств. И до тех пор, пока нам будет все равно, мы будем жить в нигде…
* * *
Мы не сказочники, мы – материалисты.
* * *
Человек, стоящий в углу, не может быть полезен.
* * *
Не все ли равно, кто будет рассказывать нам про осень…
* * *
Бродить по земле оказалось намного интереснее и забавнее, чем торчать в небесах и считать себя воробьем. Вот что со мной произошло.
* * *
О «Казанове» Феллини. Нелепость и кукольность бытия. Все дышит какой-то необъяснимой марионеточностью: дома, люди, деревья, фонари, тротуары, скамейки, фонтаны, собаки – все-все. Движение строго очерчено и предрешено. Кафкино судилище.
* * *
Авангардистам привычней жить в развалинах – не стоит их беспокоить и тем более выкуривать оттуда.
* * *
Не нужно подстраивать себя под кого-либо, нужно просто строить себя из того материала, что накопило за свою историю человечество. О том же, но применимо к традиции в искусстве, писал Т. С. Элиот.
* * *
Право, если ты желаешь подарить кому-либо целый мир, то дари мир, а не рассуждения о мире, дари слово, а не рассуждения о слове. Рассуждения – дело частное, их лучше оставить у себя в дневнике.
* * *
Шизотип. Излюбленный герой у Попова.
* * *
Верное начало поэзии – что вижу, о том и пою.
* * *
Горячо любимого Барона затянула Москва. Черный Пью колет дрова. Борода – мэтр на мэтр…
* * *
Душа улетает в небо. У ворот рая просят справку с места жительства. – Нет ее у меня… – Ну тогда ступай в ад, – говорит Бог Саваоф.
* * *
Метафоры не сваливаются с неба, как манна. Помпезная, придуманная, вычурная метафора всегда необычайно скудна по своему содержанию, ибо она есть не-умение видеть мир, не-умение видеть взаимопроникновение вещей.
* * *
Пришел Попов и привел с собой Бога. «Сердце в земле».
* * *
Язык нужно любить не столько за то, что на нем можно тараторить без умолку, сколько за то, что на нем можно думать.
* * *
Нужно молчать и слушать, как разговаривают вещи. Чтобы понять смысл их, нужно не властвовать над ними, а сочетаться с ними, как равное с равным. Природа не терпит бунта.
* * *
Каждый раз поздним вечером – прогулка от одной остановки до другой. И говорить о стихах. Прелесть свежего воздуха. Пыль оседает и становится незаметной. Не чихается без пыли. Город мертв.
* * *
На берегах Оби. Дикость и свобода. Очень много воздуха. За горизонтом – Север. Страна гипербореев…
* * *
«Взбалмошная полночь» увенчала собой полтора года работы. Теперь пустота и навязчивая бессонница.
* * *
В конце концов, все порочны. Даже троллейбус на остановке…