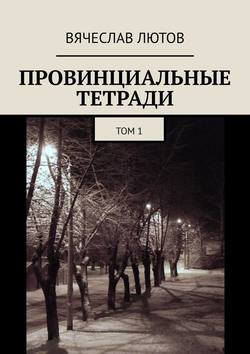Читать книгу Провинциальные тетради. Том 1 - Вячеслав Лютов - Страница 7
ПРИЗРАЧНЫЙ ДОМ С РЕАЛЬНЫМИ ОКНАМИ ВО ДВОР (1990)
Оглавление…И снова снег; размеренный, беспечно искрящийся, скучный; снова снег: неожиданно задумавшийся, тоскующий, холодный; и мне кажется, что он будет всегда, вечно; и я уже даже боюсь звона капели, разрушающей его строгость.
К чему этот страх?
Так же, как трость Бетховена, чтобы слышать музыку… Гармоничны лишь музыка и снег – в нем застывшие ноты; все, что осталось от звуков рояля и скрипки, вырвавшихся из распахнутых окон.
Зачем зимой распахнуты окна?
Так же мистичны, как кирпичики старших символистов… Неужто и сюда донесся ветер древней Ассирии, сюда, на бесконечную равнину, укутанную снегом?
И невероятно сентиментальны мысли. Но это уже далеко не Стерн и не Карамзин. Я, быть может, сентиментален до фатальности; и жалею свой Рок, и сочувствую ему, что он выбрал именно меня. И почему именно меня?
Должно быть, потому что я живу в том особенном доме, не имеющем адреса, несуществующем, розово-голубом, смешном; но с обязательно распахнутыми окнами во двор – и я могу слышать и видеть мир; и не принимать в нем участия, но выдувать стеклянные фигурки на этажерку для Лауры, для ее незатейливого стеклянного зверинца.
Вероятно, потому и распахнуты окна, что незачем эта прозрачная пленка – я и без того огражден стенами, чтобы еще прятаться за стеклом.
Да и тот дом, который я так берегу и лелею, церемонюсь с домоткаными ковриками и любуюсь выцветшими обоями, не существует вовсе. Я уже говорил об этом. И, возможно, еще раз скажу… потом.
А как же быть иначе?
Нет-нет, было желание отпустить бороду и пойти старить – в церковно-строгие, но светлые сосновые леса на уральских хребтах; затем дальше, на северо-восток, вдоль однопутной железной дороги – к Тобольску.
Из декабря в декабрь…
И потом: еще дальше; туда, где горизонт все шире, а леса ниже; где все настежь; где все прекрасно до дикости; где все убого до величия…
На берегу Оби…
Не хочу… Теперь уже не хочу.
Я никогда ничего не думал; и мысли были похожи на эхо – «это семь лебедей Лоэнгрина». А змеи все извивались, и волк стоял на задних лапах, и была большая серебряная полоса как раз там, где начинается небо, – это образ того, кому посвящена «Большая элегия»…
А дым от папиросы так же реален, как и все, что находится с той стороны окна. Я сижу и курю, и ловлю снежинки – ведь там, за распахнутыми створками, зима.
Но мне совсем не холодно. Наверное, мне всегда одинаково, мне всегда медленно. Так же, как «тихо течет река по равнине», и все это – в стороне от Зевса, Хирона и Прометея.
И я не знаю, что оставил в стране Эллады. Уж не я ли когда-то давно – сквозь тысячелетия – был невидимым слугой греческого пантеона, а затем: тайным советником при русском дворе; чтобы в конце концов стать сотворителем мифа о прекрасном и одиноком поэта.
Лавры слепца из Маары и зрячего шута на Ирбитской ярмарке не дают мне покоя…
Я никак не мог предполагать, что будет столь беспокойно в доме, которого нет, но с окнами, которые во двор. В нищету и отчаяние…
А как хотел бы я, чтобы окна выходили в сад, к красивым фонтанам рая! Но и они выдуманы. И все – выдумано. Лишь третий круг ада у Акутагавы есть на самом деле.
Вот и цвета вдруг стали сумбурными с той стороны окна. Но может быть, это и есть то самое зеркало Тарковского? Я смотрю в мир, и ничего не вижу, кроме себя. Такой же нищий, изношенный, надломленный…
«Мир надвое, и я оттуда…»
Тропинки в лесу усыпаны хвоей; падает снег, близки сретенские морозы, а в моем лесу – по прежнему осень. Там всегда осень: лилово-красные липы и лимонные березы, и поседевшие сквозь вечную зелень сосны. Лес смешанный, смешной…
А белый дом – хатка-мазанка – куда ему до президентских покоев. И всадник, скорее всего, принес плохую весть – где уж мечтать о хорошей! Хорошие вести можно лишь выдумать – выдуманное не бывает плохим.
Значит, я вместе со своим домом – хороший.
И неинтересный… Ибо «один путь открыт – путь порока». И все идут по нему, и все счастливы оттого, что идут по нему. А праведники? Что праведники? Они лишь верстовые столбики и запрещающие знаки, на которые никто не обращает внимания.
Я никуда не иду. Мне приятнее быть там, «между двух рек». Я никуда не исчезну, но и никогда не появлюсь…
Как тяжело время перешагивает за полночь!
«Вы всю жизнь заботились о душе и совсем забыли про тело». Я знаю, что так оно и есть, и что это – неоправданный выбор.
И зачем я выстроил себе этот дом? Для тепла ли? Не знаю…
Шум падающих листьев – вечная музыка уходящего. Кто унаследует сон? На чьих ладонях будут таять снежинки?
Все преходящее – застывает, становится зимой, становится стеклом. Дым от печной трубы стоит столбом – к морозам от Рождества к Сретенью.
Вот и все, пожалуй…
И стоит ли мне удивляться тому, что снова сижу один на кухне, за старым столом, укрытым порезанной клеенкой, пью вчерашний чай и уже ни о чем не думаю. Смотрю на неприветливых прохожих, что спешат на работу и в магазин, на ярко-красную машину с екатеринбургским номером…
Жаль, что у меня нет такой машины. Стало быть, и ехать никуда не надо – смотри на кофейные обои и пиши…
…Я становлюсь нудным и ворчливым. Мое старенькое кресло скрипит, и в печи едва теплы угольки, и шкаф, навалившийся на стену, печально глядит пустыми полками. Все хорошо…
Да, быть может…
«Вам что-нибудь нужно?» – «Нет, ничего не нужно».
И в руках у меня томик Бальмонта, с загнутым уголком на стихотворении о надменной красавице…
Это все оттуда…
Мне не интересен адрес – на почте не принимают мои письма…
1990