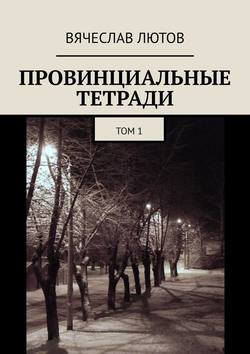Читать книгу Провинциальные тетради. Том 1 - Вячеслав Лютов - Страница 21
НЕЧАЯННЫЙ ГОСТЬ (1991)
ОглавлениеИ вот, когда по сонным кварталам растеклась ночь,
и все сломлено,
и потеряны линии крыш и деревьев,
мне печально и тихо.
Сигаретный дым будет медленно наполнять комнату,
чай в чашке будет остывать,
а ноги мерзнуть от сквозняков —
как обычно;
как обычно придут незванные сентиментальные мысли,
и мы станем говорить ни о чем:
быть может, о погоде,
о первом снеге,
о северном ветре;
и все лишь затем,
чтобы отогнать скуку,
чтобы развеять грусть,
чтобы почувствовать себя не таким уж одиноким, как раньше,
и не совсем одиноким, как потом.
Мне что-то говорит мой призрачный гость,
одетый в серый плащ и даже не снявший шляпы;
но о чем он ведет речь – я могу лишь догадываться.
Слова его ритмичны, словно он читает свои новые стихи —
и минуты приложимы друг к другу, как строка к строке;
я улыбаюсь,
я уже давно не попадаю в рифму,
я повис на стене, подобно картине,
я повис на стене, подобно гитаре,
на которой никто из моих домашних не умеет играть.
Нечаянный гость укоряет меня в лени;
впрочем, я согласен с ним,
а потому мне ни капли не стыдно —
я бездумно валяюсь на диване и мну пальцами сигарету,
смотрю на коричневые обои,
смотрю на свою фотографию, где мне всего семь лет,
смотрю на книжные переплеты,
смотрю на качающиеся занавески,
смотрю на переливающиеся хрусталики лампы, —
и нахожу в том неведомую доселе привлекательность…
Человек в сером плаще смотрит на меня безнадежными глазами —
он —
мое провинциальное вдохновение —
нелеп и бесцветен.
Я говорю ему,
что не стоит лишний раз тревожить душу —
свою и чужую —
равно как не умея играть, садиться за белоснежный Беккер
и пытаться неподвижными и негнущимися пальцами угадать две-три ноты,
одну за другой.
Нет, – говорю я ему, – к чему все твои старания?
Сейчас, должно быть, он обидится на меня,
возьмет прокуренными пальцами фетровую шляпу
и приподнимет ее, прощаясь —
но он назойлив,
как муха, что ползает по моим бумагам
и читает их по диагонали, подобно маститому снобу-критику;
он смотрит на меня своими большими глазами
и спрашивает о завтрашнем дне —
откуда я могу знать о завтрашнем дне,
когда я даже не представляю себе сегодняшней ночи…
Он перебивает меня холодным замечанием,
что как раз ночь, увы, уже на излете,
и что никто, кроме него, меня теперь уже не потревожит
ни стуком,
ни криком,
ни взглядом,
ни вздохом;
а оттого он осмелился назвать меня братом —
пусть будет так;
он польстил мне, назвав мой ум светлым и гордым, —
пусть будет так;
он предсказал мне, что я умру с почетом и во славе —
пусть будет так, —
совсем не плохая участь…
Он сказал, что руки мои трескаются от безделья —
и ошибся;
он сказал, что я ни дня не проживу без строчки —
и ошибся;
он сказал, что я должен войти в лоно литературы,
подобно тому, как входят в лоно женщины, —
и ошибся…
Ты плохо кончишь, – обреченно подытожил он
и отставил чай в сторону,
и потянулся за сигаретой,
и стал искать глазами спички
и пепельницу.
Вот-вот…
кто из нас сгорит раньше,
чем эта спичка успеет почернеть и скрючиться?
Мой друг, – сказал я, – мы и сами не знаем, чего хотим;
зачем же нам винить друг друга;
наши слова прекрасны —
так стоит ли злоупотреблять этой красотой,
придавать ей одноразмерность, созвучие? —
ибо невозможно подчинить закону хаос,
и любое ars combinatoria —
лишь тщетная попытка параграфа подчинить себе все смыслы.
Ты неисправим, – ответил он, —
ты находишь тысячу оправданий своей лени,
ты жаждешь публично зарыть свой талант в землю,
ты хочешь, чтобы тебя жалели,
ты хочешь, чтобы тебя любили,
ты хочешь, чтобы о тебе пели,
ты хочешь, чтобы тебя признали богом —
смешно…
смешно
потому, что этого хочет тот,
кто ни разу не ударил палец о палец,
кто ни на сантиметр не приблизился в желаемой цели,
кто только и делал, что оглядывался по сторонам, всего пугаясь…
Он печально улыбнулся мне и сказал,
что продолжает наивно надеяться и верить в меня,
что есть на земле вещи,
которые несоизмеримы с комнатой,
которые требуют полета,
которые жаждут бунта,
сумасшествия,
отречения,
любви;
что каждое слово должно быть вечным,
что каждое чувство должно быть сильным,
что каждый штрих должен быть верным.
Он, разгоряченный, вскочил со стула
и суетно продолжал говорить о том,
что нам не суждено увидеть воочию все изломы истины,
что мы каждый раз лишь созерцаем одну единственную ее плоскость,
что мы похожи на слепых котят, тыкающихся в разные предметы, —
но и в этом случае
мы не так безнадежны, как казалось,
мы не так ничтожны, как кажется,
мы не так бессильны, как будет казаться…
Ты пойми, – кричал он, – все зависит лишь от нас,
от нашего духа,
от нашего ума,
от нашего поиска;
что нас не водят за нос,
а если бы даже и водили, то никуда бы не привели,
раз мы сами того не желаем.
Он сказал, что пришло время быть Творцом.
Он внимательно смотрел на меня,
он светился от важности своей фразы,
словно люминесцентный фонарь на железнодорожной станции;
он ждал, ждал, ждал…
А я…
я встал с дивана и отправился в туалет;
потом прошел на кухню и выглянул в окно —
там, за окном, падал снег,
там, за окном, были лишь черные окна домов,
там, за окном, шипел ледяной ветер,
там, за окном, коченели голые ветки лип,
там, за окном, горели сиреневые фонари…
Конечно,
конечно, я еще не совсем потерян,
я молод и глуп,
я чист и светел,
я полон сил и энергии —
надо обязательно сказать об этом моему нечаянному гостю,
чтобы он не записал меня раньше времени в реестр несостоявшихся,
чтобы он, в конце концов, не думал обо мне так плохо.
В моих руках оказались две чайные чашки —
зачем?
зачем нужны мне одному две чайные чашки? —
комната была пуста;
и я подумал о том,
что впору считать рыжие половицы от стены до стены.
И было столько свободы,
что я даже растерялся, не зная, как мне поступить с ней;
и хорошо, что все окончилось так быстро;
я включил магнитофон,
я стал крутить в пальцах спичечный коробок,
я уставился на нелепую настольную лампу…
А вокруг уже текла музыка,
и на островке своего стула было так приятно выкурить сигарету,
ни о чем не думая,
ни с кем не разговаривая,
никуда не спеша,
никого не ожидая.
Табак и бумага тлели,
тлели,
тлели, —
и никто, я знаю, никто не в состоянии хоть как-нибудь переиначить
такой порядок вещей и
такую обыкновенную постоянность метаморфоз…
ноябрь, 1991