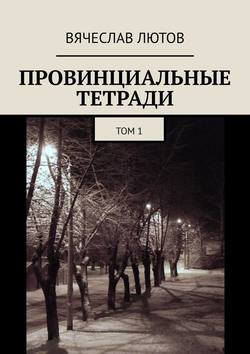Читать книгу Провинциальные тетради. Том 1 - Вячеслав Лютов - Страница 6
ОТ ЖЕЛТОГО ЛИСТА (1990)
ОглавлениеЮ. Одинцовой.
Теперь, когда осень, все спокойно и обыкновенно – нет лишней суеты, шума, хлопанья тамбурных дверей, бесконечного стука колес… Обыкновение видеть знакомые лица, при этом почти ни с кем не встречаться, ни от кого не зависеть. Все поддается упрощению – и не нужны глобальные философские истины, чтобы осознать красоту и бестревожность своего существования. Нет никакого желания потрясать мир или самому быть потрясенным; нет надобности говорить о политике, хвалить или хулить Саддама Хусейна, выбирать кого-либо из новоявленных президентов…
Осень. Это просто осень.
Должно быть, это то самое мгновение года, когда время неистово спешит вперед, к белым мухам, а человек… человек остается где-то на изломе летней зелени и первых ночных заморозков.
И то, остановленное внутри человека время, становится даже не ностальгией, а скорее обыкновенным осенним воспоминанием – пока нет надобности вытаскивать из кладового шкафа шубы и шапки, пока нет заботы о рождественских подарках.
И писать осенью можно не задумываясь, не задаваясь целью, не предвкушая конечного результата; писать, по сути, ни о чем, но ради того, чтобы писать, со странным трепетом отстукивать на машинке буквы, слова, точки, запятые; впрочем, что я сейчас и делаю.
И ты, наверное, простишь меня за это…
Откуда мне знать, что осень необычайно грустна ныне, что она странно задумчива, порой даже сбивчива в своих мыслях. Как и откуда знать мне, что поезда продолжают отставать от расписания, но в конечный пункт обязательно приходят вовремя…
С тобой что-то случается, а я ничем не могу помочь тебе – меня просто нет рядом. И не дает осень других объяснений. Только в пору листопада приходит желание быть вместе и навсегда, а затем, лишь сойдет снег в конце марта, жизнь снова будет измеряться встречами и новыми знакомствами; и расставание будет не таким тяжелым и безысходным – его вообще не будет, а лишь встреча за встречей.
И, видимо, все в мире происходит для того, чтобы мы когда-нибудь пожалели бы о происшедшем. Кто – о чем…
Иногда так хочется ошибаться! И я готов благодарить любую ошибку, кроме предательства. Осознанного предательства. И ты знаешь, мне кажется, что забывчивость людей – это не предательство, как многие хотят это показать; это – благодарная ошибка. Люди легко знакомятся – люди легко забывают друг друга. Лишь бы это не случалось так скоро… И вся беда в том, что, когда мы страстно желаем обмануться, нам говорят правду.
Мы ведь не будем врать друг другу? Какой нам резон говорить неправду? Только ложь порождает обиду…
Мои слова, должно быть, смешны – какой из меня Плутарх, чтобы читать наставления…
Да, собственно, это и не наставления. Многие скажут: «Не учите меня жить!» – и трижды окажутся в дураках. Можно научиться выживанию, но не жизни. Может быть, я и сам не знаю жизни, и вообще: ничего не знаю – оттого и пишу тебе – себе – такие слова… Ведь ты не станешь надо мной смеяться?
Мы, наверное, случайно переступили через тот порог, когда мир становится сухим морщинистым стариком с детскими глазами…
И я не могу сказать тебе, что люблю, что не могу без тебя – нет, это не будет ложью, но полуправдой… Я всю осень живу вашим покоем – твоим и Наталькиным – и я боюсь даже мысли о том, что смогу его разрушить, внести сумятицу и бессмыслицу. Я не очеркиваю на календаре даты – не хочу ощущать фатальность времени. Хотя и знаю – оно когда-нибудь все разрушит, превратит в пыль, и любая чистоплотная хозяйка станет стирать эту пыль влажной тряпкой с книжного шкафа.
Если что-то и изменится, то, должно быть, без моего участия – я не хочу, чтобы что-то менялось. Разве автобус затеряется где-то между Щербаковкой и Сысертью, и я снова выйду на стоянке курить и прикидывать оставшиеся часы до Екатеринбурга. Потом буду смотреть в окно и пытаться уловить буквы на указателях.
В последний раз уже стояла осень – дивная осень! Даже несмотря на дождь и серое небо. Небо не может быть серым, когда все утопает в золоте, дышит размеренно и чинно, все исполнено тайной грусти…
А ведь, впрочем, так оно и получилось… Когда играла музыка, на стол подавали пельмени и водку, и дым от сигарет смешными обрывками висел в воздухе…
И в твоей комнате было душно, что невозможно уснуть…
Зато теперь – невероятная свобода, пустая свобода; и ночь за окном, и снег… Да, уже снег, и я просто делаю вид, что не замечаю его, что вокруг – пока осень, утонченная и хрупкая натура; достаточно слабого дуновения ветра, чтобы сорвался желтый лист и закружился медленно-медленно в прощальном танце…
Есть люди, похожие на ветер и похожие на листья. Я, наверное, похож на листья – тянусь туда, где тепло; или могу быть украшением в чьем-нибудь гербарии. Ты тоже похожа на листья, пусть не на те, которыми восхищаются, которые рисуют художники в натюрмортах, а те, которые незаметны, но без них невозможна зелень лета, без них трудно дышать.
А еще мы с тобой похожи на ветер… Ты ворвалась в мой дом и принесла два письма, затем, как почтальон-невидимка, снова исчезла. Кто-то скажет, что видели тебя на забытом полустанке за двойным вагонным стеклом… Я тоже похож на ветер – врываюсь куда-то, где обо мне и слыхом не слыхивали, хватаю гитару в руки – и вот тишины уже как не бывало. Да, именно: ветер – бываю везде и нигде не останавливаюсь, как скорый поезд. Только вот, куда спешу – бог его знает.
Хочется написать тебе такое письмо, которое бы никогда не кончалось, и ты бы читала его по вечерам, загибая уголочки листов, чтобы завтра, едва утихнет общежитская суета, снова читать; или в поезде, когда пассажиры надоедят окончательно своими глупыми вопросами и вечными просьбами; или на какой-нибудь станции, где состав выстаивается полтора часа; или дома – и лучше всего дома – где все так привычно, и любое изменение сулит катастрофу…
Ах, как хорошо было бы написать такое письмо!
Ты не кори меня за многословие и не подумай, что я пишу тебе скуки ради. Должно же когда-то многое сказать, и пусть это «многое» на первый взгляд покажется лишним. Но ведь это не так, далеко не так! Странное обретение слова принес почтальон. И, поверишь, я боюсь остановиться, иначе я не смогу написать тебе то, что хочу написать. И я не могу не быть откровенным. Это было бы нечестным. А еще: я даже не знаю, что именно сказать тебе – вот парадокс… Просто: говорить ни о чем, или лучше об осени.
Мы с тобой никогда не говорили об осени… или говорили?.. не помню. И я думаю, что у этого письма два адресата – ты и моя память. Древние говорили: «Написанная буква вечна». И я даже помню, как это звучит по латыни. Я всегда помню не то, что надо…
Представь себе, что когда-нибудь, по прошествии многих лет, ты станешь перебирать старые бумажки и вдруг наткнешься на мою вздорную рукопись…
Мне иногда кажется, что я никого не сделаю счастливым, но и никого не сделаю несчастным. По гороскопу – огонь, будь то уголья за решеткой камина, будь то пламя в жерле вулкана. И если я буду вынужден выбирать, то остановлюсь, пожалуй, на первом…
Ведь не одними Данко живет человечество!
Где-то в самой глубине души кроется нелюбовь ко всяким потрясениям, смутам, революциям. Во многом только сейчас начинаешь понимать, как необходим покой. Нет, не старческий и бессильный, а просто покой… и забота. Вот только моя свобода не вписывается сюда никаким боком.
А еще есть «далекий и волшебный город», и в нем можно укрыться, спрятаться от всего мира и мудрствовать о бренности человеческого бытия – это сейчас удобно и ужасно модно, и этим готовы оправдать любое одиночество. Но я никогда не позову тебя в тот город, иначе мы спрячемся каждый в себя и перестанем существовать друг для друга. И мне кажется, что с каждым словом, мною написанным и тобою прочитанным, мы бежим прочь от города нигилистов, отшельников и мудрецов-одиночек, что блуждают по космосу – в голове у них просверлены дырочки, через которые они получают энергию. И антенны, наверное, тоже есть…
Я приеду к тебе, прикоснусь к твоей щеке, проведу ладонью по волосам – и никакая вселенская энергия не сможет насильно прервать это мгновение!
Ты права – мы сами создаем себе трудности. Должно быть, подобная рефлексия в нас со времен Федора Михайловича заложена. И никто не знает: хорошо это или плохо. Даже русская осень – и та закомплексована: с трудом выбирает краски, исподволь, словно чураясь кого-то, наносит их сначала на жилки листа, затем по краям и лишь потом добирается до мякоти – словно боится: как бы чего не вышло, или вышло бы не так, как правильно…
И не пессимизм приходит осенью, а странное ощущение Рока, когда тебя вырывают из хаоса, веселья, безрассудства, и ведут по строгим аллеям Екатерининского парка, – и невольно начинаешь вспоминать царскосельские строки Пушкина. Прямые линейки ровно подстриженных кустов – и осязание того, что перпендикуляры имеют лишь одну точку пересечения. И вот тогда реально начинает чувствоваться, что я и ты находимся в этой точке.
И еще говорили древние: «Помни о смерти». Нет, не надо бояться ее, но лишь бы не растранжирить то время, которое нам отпущено…
Извини меня, что я не умею смеяться в своих словах. Что ж, и маску клоуна я всегда надевал искренне – нравится – ибо никчемное занятие служить источником плохого настроения…
Сейчас сижу и пью крепкий чай, чтобы не уснуть – время четыре часа утра; сигареты безжалостно кончаются; и по ногам струится сквозняк; и письмо все больше начинает походить на роман.
На роман… с осенью.
Нет, мы не можем перестать существовать друг для друга. И пусть мы сейчас слепые – я не вижу твоих глаз, ты не видишь моих; и пусть столь же незаметна ниточка, связывающая нас. И я буду писать тебе ни о чем, а ты будешь читать про ничего – но на самом деле мы будем дарить друг другу целые миры, и никто не догадается об этих мирах, а если и догадается, то не сможет понять их.
Почтальон будет хлопать дверью моего подъезда, а осень кружить листьями…
И так будет правильно.
1990