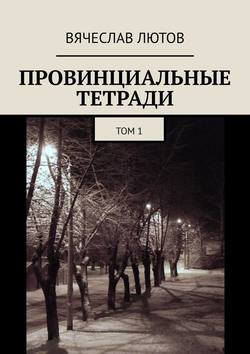Читать книгу Провинциальные тетради. Том 1 - Вячеслав Лютов - Страница 23
НОЧЬ ЗА ВАГОННЫМ ОКНОМ (1991)
ОглавлениеНе знаю, что я пытаюсь отыскать в том черном мире, странном и неизвестном, в том черном мире, что сейчас находится за вагонным окном моего служебного купе – он мне кажется нелепым, иначе как объяснить его существованье?
А черный, потому что ночь…
И у меня нет никакого другого занятия, нежели прикуривать сигарету от сигареты, и небрежно стряхивать пепел в грязный стакан, и тупо смотреть на пожелтевшую раковину, и ни о чем не думать.
Это хорошо – ни о чем не думать.
За окном – едва различимые перелески, тайные и заколдованные; лишь смутные отблески скользят по ним, словно заговаривая от беды. От беды ли?
Пытаюсь поймать далекие огоньки – но только-только протяну руку, как они исчезают, словно никогда и не существовали. Откуда взяться далеким огням среди вековой тайги? – разве что на полустанке, где поезд обычно притормаживает, или останавливается совсем и надолго – пока не прогрохочет встречный.
Дикой страстью веет от этих лесов. И чем-то древним, каторжным. Никогда не был на каторге… Изучаю маршрут…
Смотрю на часы и одновременно на расписание – и уже не могу разобрать: где цифры, а где буквы. Скоро станция, и нужно будить пассажиров. Хотя, зачем? Пусть едут со мной на край света.
Маленький старичок в сером пиджаке и коричневых брюках заглядывает ко мне:
«Скоро, сынок, приедем?»
«С получаса еще».
«Я у тебя водички попью?»
Достаю из вагонного шкафчика чистый стакан и протягиваю ему.
«Ладно хоть вода есть… и бесплатно».
«Скоро она только нам и останется».
Он грустно улыбается, возвращает мне стакан и идет в вагон собирать вещи.
Старики всегда заранее собирают вещи…
Я начинаю думать о том, что все плохо и безысходно; и что уже вряд ли удастся спасти эту страну, так глупо распорядившуюся своим существованием…
…Я мог бы не быть одиноким.
А просто: остаться с кем-нибудь навсегда, и не мотаться по белу свету в ржавом грохочущем вагоне, и не выискивать «зайцев», и не выскакивать в тамбур на каждой станции, и не перебирать проездные билеты, и не бриться по утрам на ходу, качаясь и придерживаясь рукой за желтую трубу.
Я многого бы не хотел, но разве меня кто-нибудь спрашивает о том; и не я ли сам воспел вагонные защелки, флажки и фонари?..
И у меня достаточно времени, чтобы думать о своей жизни? И во мне достаточно сентиментальности, чтобы пожалеть себя. Но я не хочу… жалеть.
Зато сон начинает осторожно подкрадываться ко мне, и я предпринимаю чистку раковины, смахиваю мусор и пыль с рабочего и чайного столиков, беру в руки веник… и вот уже похож на переросшего, но до сих пор маленького принца, который заботливо обхаживает свою планету.
Но у меня нет такой планеты. Точно так же, как у героя Сент-Экзюпери нет вагонной служебки…
Из всех пассажиров ночью у меня выходят лишь двое, и слава богу не на разных станциях, – этот старик и пожилая дама, должно быть, местная бухгалтерша или продавщица. Едва заметив огни, они осторожно, боясь разбудить кого-либо, вышли в тамбур.
Я знаю, что на этой маленькой станции мы будем стоять целых полтора часа – среди ночи, среди жуткой тишины, изредка поглядывая то на часы, то на большой красный глаз светофора у выходной стрелки. И будет прохладно и спокойно – будет много воздуха, много свободы, и не составит большого труда задохнуться в ней; и я в страхе отшатнусь к деревянному забору, и закурю, и буду смотреть, как сизый дым цепляется то за серые ветки яблони, то за черный бархат небосвода.
И не перебьет табак усладительного запаха диких яблонь!..
Я чему-то безнадежно радуюсь: не то ласковому дыханью пустоты, которая вдруг оказалась способной на вздох; не то доброй успокоенности своей, что принесла с собой тихую музыку, появившуюся невесть откуда – с Индии или с Китая…
Может быть и вправду, музыка не нуждается в инструментах и нотах. Она просто существует или не существует.
Все, что вокруг, – музыка.
И мне кажется странным свое бытие – сплошная цепь неведомых чудачеств и невезений – бесцелостное бытие, существование от станции к станции, от восхищения до разочарования. Наверное, это у всех так. Смешные мирки окружают нас, а смешные оттого, что мы их не понимаем, что все наши мысли одномерны и жизнь наша – плоскость.
Но все вещи разговаривают между собой, я знаю. И люди тоже разговаривают.
Вот из вагона вылез местный нефтяник, почетный отец семейства – они у меня едут в последней плацкарте – он в футболке и спортивных штанах.
«Душно».
Я ему ничего не отвечаю.
«Что-то долго стоим здесь…»
«К утру отправимся…»
Я шучу.
«Студенты?»
«Да».
«И каждое лето так?»
«Каждое лето».
О чем говорить? – не знаю.
Я отправляюсь вдоль вагона, со знанием дела проверяя буксы…
Такое ощущение, словно я брожу по тому свету, и название станции, должно быть, – Элизиум. Меня перевез Харон на тот берег.
И странно, что там все, как здесь: и слепые окошки пристанционных домиков, и трухлявый забор, и лоснящаяся под светом фонаря трава; и поезд… главное: поезд, мертвый, черно-зеленый, с бледным ночником по салону…
Стук-стук…
«Сонный сторож стучит мертвой колотушкой…»
И нет больше других звуков, кроме колотушки и музыки моего успокоения. И не надо. Мне не нужно того, чего у меня нет…
Восхитительный мир открывается ночью – бесконечный и загадочный; листья тополя шелестят за спиной…
Откуда здесь, на севере, тополя? – видно, деревья всюду спешат за нами…
Но все, что я хочу сказать, не больше, чем слова; и если бы я захотел спеть, то это было бы не больше, чем песня – звуки и ноты вперемежку с буквами; и краски на моем холсте – не больше, чем оттенки цвета, чьей-то властной и безжалостной рукой запрятанного в жестяные тюбики.
Зачем?..
И я не знаю, отчего человек так стремиться понять то, что очевидно и без его ума; и так же то, к чему его мозги пока не подготовлены. Поэтому смута и суета.
Да, но все гениальные идеи человечества рождаются всуе и в спешке; «все гениальное изначально ничтожно». Вот и я, кавардачный человек, пытаюсь думать обо всем сразу, и нет мне надобности приводить в порядок свои мысли, и нет никакого желания писать для потомков – нужно писать для тех, кто рядом с тобой, и не гнуть из себя невесть что, и не придумывать себя, постоянно дрожа перед тем, что скажут о тебе.
Я, должно быть, эгоист, ибо сначала пишу о себе, а потом уже о своем времени.
…Из вагона тяжело вываливается Вовка – мой названный брат – что-то спрятав в руке. Вот, я и о нем напишу…
Улыбается.
«Братан, выпить хочешь?»
Когда я отказывался! В стакане не то портвейн, не то вермут – ныне все одно и то же, да и в темноте не разберешь ни черта.
«Ты чего скучаешь?»
«Так, за жисть думаю»
У меня хороший брат.
Прекрасно пить на свежем воздухе! – трезвенники не замечают этого: пекутся о своем здоровье.
Дайте человеку вечность – и он растеряется: он не знает, что ему делать с бесконечностью. И не суть важно, умрешь ли ты на десять лет раньше или на десять лет позже от положенного срока – я повторяюсь, и даже знаю, за кем…
Мне хорошо здесь, сейчас, именно в эту минуту, именно в этот глоток замечательно-мерзкого напитка; и в рай меня коврижками не заманишь…
А думы о будущем? Пускай об этом думают философы, ломают свои экзистенциальные головы и кричат: «эврика!» Они не знают, что быть дураком намного мудрее. Или, хотя бы приятнее…
«А глазки у тебя, признаюсь, блестят!»
«Ох, братан, не говори…»
Он закуривает, спичка ломается – Вовка матерится; и ищет глазами, где бы присесть.
«Мужики у меня в вагоне отличные. На вахту поехали. Я им три флакона продал… Вон, вываливаются…»
Написал бы, да грешно ругаться на бумаге…
И спеть бы, да голоса нет; и сыграть бы, да откуда в поезде гитара? Среди тишины и ночи даже самый разбитый инструмент способен выдавать чудесные звуки; можно даже не касаться струн, а воздух все равно будет отравлен музыкой. Я отравлюсь ей, и будут мне мозги промывать. Весело.
Я добродушно обнимаю братана и говорю, что пошел к Натке.
«Ну-ну»…
Не спеши… никуда не спеши…
И откуда такая мысль взялась? Путь все торопятся вершить глобальные дела во имя будущего – я слишком ленив для великих свершений.
В вагоне моем все спят, и в следующем – тоже все спят, и, должно быть, видят сны… А мне сны не снятся. Жаль, очень жаль…
Натка в своей серой рубаке и синей юбке. И рубашка легкомысленная – потому что с рюшечками…
Она улыбается мне и я улыбаюсь в ответ.
«Вот, и Славка пришел, как живой», – говорит она и предлагает выпить кофе.
В наше время – и кофе?
«Я, говорит, у фарцов купила. Недорого. По пятнашке».
Ладно, значит, будем пить кофе… Я присаживаюсь у окна и как бы невзначай задергиваю занавеску.
На столике у нее милый беспорядок: раскрытая косметичка с обыкновенной, не фирменной, помадой, бутылка из-под молока с полевыми цветами, в целлофановом мешке – печенье, тут же граненый стакан-пепельница, забитый доверху фантиками и окурками.
«Сильна ты курить-то».
«Да ты че…»
Жаль, что кофе не горячий… Но титан топить лень. Оттого и мешаем подолгу ложечкой, растворяя походный сахар – нам и спешить-то, собственно, некуда.
И вообще, смешно: поезд, а никуда не едет, словно стоим где-то в забытом богом тупике, слушаем, как каркают вороны вдоль линии. Не спится им…
«Что, Вовка пьяный?»
«Как тебе сказать… Это его обычное состояние».
«Красавчик», – подытоживает она.
Я осторожно кладу ей руку на плечо и подсаживаюсь ближе.
«Это ничего, что вот так?» – она, прищурившись, смотрит мне в глаза.
«Ничего».
И я целую, но чувствую холод губ; и мне кажется, что я не к месту в ее жизни; так, просто: случайный, но очень хороший знакомый. Я все чувствую, черт возьми, но оторваться не могу, не могу освободиться от пьянящего аромата ее губ, от страстной жажды владеть ею всей.
Точно так же, как владеть словом, что мне дано; владеть строфами и рифмой, владеть образом и чувством, владеть каждой запятой и любым пробелом. Я хочу видеть ее своей поэзией…
Но когда уже ничего не нужно, поцелуй прерывается, губы улавливают прохладу ночи; и вот уже пристально разглядываешь кривой гвоздь в стене, мятые складки солнечника; начинаешь вертеть в руках спичечный коробок.
Да, именно: коробок спичек…
Хорошее название для рассказа.
Она достает «цивильные» сигареты – это те, которые с фильтром; протягивает мне, но я отказываюсь, предпочитая свою дешевую «Астру», которая и крепче и забористей. Медленно зажигаю спичку, и вот уже по купе раздается звук сизого дыма, и он начинает медленно скользить к открытому окну, потом, как бы раздумывая, выплывает в ночное небо…
Ташка-Наташка…
Я ей что-то рассказываю про Артюра Рембо; о том, что он написал свое последнее стихотворение в девятнадцать лет, и считается выдающимся поэтом Франции. Или рассказываю об Иннокентии Анненском, и о том, как, стоя на Царскосельском вокзале на самом перроне, он вдруг упал – остановилось сердце…
Потом что-то читаю ей из «своего». Наташка благодарит меня за подаренное стихотворение. Это – ее стихотворение…
Сидеть в купе не охота, и мы идем в тамбур; рабочая дверь заскрипела, и в вагон ворвалась ночь… И я чувствую, как мой голос растворяется в ней, и не пытаюсь его удержать. Зачем говорить?
Я прижимаю Натку к себе. Она отталкивается и одновременно притягивается, словно в ней – два полюса магнита; и я даже начинаю подумывать о том, что она…
Я тихо шепчу ей – Натка…
…Люди всегда неистово ищут счастье – оно кажется им чем-то огромным, таинственным, но идеальным… оно кажется им недосягаемым, а потому никто не может сказать, что же оно есть из себя на самом деле.
И я не могу сказать; но мне все явственней кажется, что оно не больше маленькой серой пуговички на рубашке, не больше тайного движения ладони, – вот поэтому мы его просто не замечаем.
«Чин-но», – говорю. – «Сегодня ночь такая чин-ная»…
Наташка улыбается. Она всегда улыбается, словно в ней море тепла и доброты…
«Расскажи мне о чем-нибудь…»
И я начинаю рассказывать о Розанове и цитировать «Опавшие листья».
Ее подружка, глупенькая и добродушная Элька, уже спит и видит десятый сон. Она всему верит и восхищается всему… А я уже многому даже не удивляюсь…
…Но вот машинист спустил тормоз, и светофор уже замигал желтым. Я стою на перроне и курю.
«Заходи, сейчас поедем»
Да, конечно.
Через минуту весь мир снова сдвинется с места.
И мы снова будет пытаться уловить очертания этого мира, глядя в окно; и будет едва гореть ночник; и я пожелаю Натке спокойной ночи, и поцелую ее…
И все начнется самого начала…