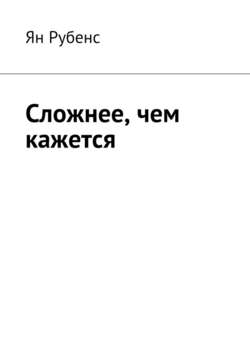Читать книгу Сложнее, чем кажется - Ян Рубенс - Страница 15
Часть первая. Книга Рубенса
Карандашный портрет
ОглавлениеОтец Дениса в школу позвонил…
Жуковских вызывали к директору. Состоялся педсовет, где присутствовали почти все учителя. Разбирали аморальное поведение мальчиков, каждый высказал свое мнение. Собравшиеся жарко спорили о возможных мерах влияния и перевоспитания. Жуковский прерывал их жестко и грубо, а сорокалетние тетки наперебой рвались посетить Рубенса на дому, и в глазах их при этом мелькала какая-то извращенная плотоядность, что-то до того мерзкое, что Жуковский невольно плюнул на пол…
Что вы себе позволяете?! Мы искренне хотим помочь мальчику! Но вы, кажется, этого не хотите… вы знаете, что в нашем уголовном кодексе есть статья, и за гомосексуализм предполагается наказание? Уголовное наказание! Вы хотите, чтобы мы сообщили куда следует?
Они не знали, что ровно через три месяца статью отменят. И только это Рубенса спасет.
Школа гудела. Девочки шушукались, мальчики рычали. Периодически кто-то названивал Жуковским, выкрикивая разные мерзости. Один раз трубку случайно взял сам Ян. Ему хватило, чтобы к вечеру наглотаться давно припрятанного торина. Его спасли. Он не ел, не рисовал, целыми днями не вставал со своего матраса. Денис не появлялся – не звонил, не приходил. Где его искать, Ян не знал.
Так продолжалось три недели. На подходе – конец четверти. Последний школьный год. Что делать?
Иван Геннадьевич рассказал сыну. Саша долго ходил по квартире, сосредоточенно прибираясь, и даже протер везде пыль. Потом вскипятил чайник, налил две чашки кофе, вытащил у отца из кармана сигареты, и молча прошел мимо родителей в комнату Яна.
– Привет, малыш. Курить будешь?
Ян вытащил голову из-под одеяла, посмотрел недоверчиво.
– Курить, говорю, будешь? – повторил Саша.
– А родители тут? – Ян медленно и неуверенно приподнялся на постели.
– А ты думаешь, они тебе сейчас что-нибудь запретят?
Саша поставил на пол кофе и сел у изголовья. Долго смотрел на брата: как он взял сигарету, как прикурил, как начал вертеть ее в пальцах. Он сидел такой беспомощный, сильно похудевший, испуганный. Казалось, и двигаться боялся – как будто ему запрещено. Надо с чего-то начать…
– Послушай, Ян… ты хочешь, чтобы вся твоя жизнь прошла именно так?
– Я не хочу ничего, Саш…
– Неправда.
– Правда.
– Может, ты просто боишься хотеть?
–?..
– Считаешь себя не вправе хотеть?
– Что ты имеешь ввиду? – Ян медленно поднял голову, и они встретились глазами.
Большие серо-зеленые, широко раскрытые – Рубенса, и вытянутые, как миндальный орех, темно-карие – Сашины. Саша вложил в свой взгляд все, что не решался произнести вслух. И «я все знаю», и «ты не перестал быть моим братом», и «мне все равно, какой ты», и «ты все равно мне родной», и «я хочу тебе помочь», и еще много чего. Ян опустил голову.
– …Мне стыдно.
– За что?
– За то, что я такой.
– Да кому какое дело? Перед кем тебе стыдно?
– Перед всеми. Перед собой. Перед тобой. Я знаю, ты таких не любишь.
– Да я и не думал об этом! И для меня есть разница между «такими» и тобой. Ты – мой брат.
Что-то ударилось в окно. По стеклу растекалась овсяная каша. Еще один комок. И еще один. Кто-то свистнул во дворе, раздался дружный хохот. Прилетел еще один ком овсянки, и все стихло. Разговор потерял смысл. Яна бил озноб, он рыдал и кричал в подушку что-то о проклятии. Опять принесли валерьянку и снотворное, укутали его поплотнее и оставили спать под надзором Саши.
Но что делать? Малейший намек на встречу с психотерапевтом или хотя бы с психологом, вызывал у Яна истерику. Жуковские видели, что ситуация ухудшается и, если ее не разрешить, Рубенса, возможно, никто не спасет. Буйная реакция сменилась апатией и нежеланием принимать реальную жизнь. Жестокие звонки продолжались, Денис не появлялся. Комья в окно летели все чаще: кому-то было не лень варить ее и прибегать под окна почти каждый день. Ян бился головой об стену и, в конце концов, попросил Жуковских отдать его в сумасшедший дом…
В один прекрасный день в дверь позвонили. Открыла Надежда Геннадьевна. На пороге стоял невысокий крепкий парень в кожаной куртке и в кепке, с большой сумкой за плечом. Цепкий недобрый взгляд с прищуром. Чуть кривая линия рта.
– Меня зовут Олег Каретный. Сосед по парте вашему Яну, – он шмыгнул, еще больше скривил рот. – Где он? Три недели – ни слуху, ни духу. Конец четверти. Поговорить бы с ним.
– Здравствуйте, Олег. Вряд ли он…
– Какие «вряд ли», я не понял… – Каретный зашел нагло, отодвинул хозяйку, и сам закрыл за собой входную дверь. Снял кепку, небрежно закинул на вешалку, бросил свой мешок на пол, ботинки свои, можно сказать, раскидал. Даже выпрямившись, он был ниже Надежды Геннадьевны. Глядя на нее исподлобья, произнес твердо: – Если не я, то никто его в школу не вернет. Просто поверьте. И все. Где его комната?
Надежда Геннадьевна молча показала на дверь Рубенса.
– Только он может спать….
– Разбудим. Если вы исчезнете из дома минут на двадцать, будет очень кстати. Вам в магазин не надо?
– Молодой человек!..
– Меня зовут Олег. Олег Каретный. И этим парадом командую теперь я. Вы с управлением не справились.
– Что вы имеете…
– Вы его из задницы вытащили? Я общаюсь с вашим Сашей. Знаю кое-что. Не мешайте мне и сходите в магазин. И лучше пробудьте там хотя бы полчаса, – Каретный едва заметно подмигнул Надежде Геннадьевне и открыл дверь в комнату Рубенса.
Олег Каретный. Трижды был второгодником в разных классах. Хулиган. На учете в милиции. В школе за ним даже среди учителей закрепилось емкое прозвище – Бандюган. Сколотил в школе внушительную банду себе подобных, был их непререкаемым авторитетом и главарем – на правах старшинства, силы, бесспорной хитрости и остроты ума. Обладал редким качеством – тонко чувствовал и понимал человеческие мотивы поведения: непредсказуем сам, всегда знал, кто как поступит в следующую минуту. Молчалив, наблюдателен, с вечно презрительной миной на лице. Его пытались исключить из школы раз шесть, но все как-то улаживалось. Все лелеяли надежду, что Каретный сам «как-нибудь рассосется» после девятого класса, но он почему-то решил остаться! А в последний раз – около года назад – лично пообщался с заведующим РАЙОНО. Ходили слухи, что пригрозил доказательно изложить кому надо факты, что у того в любовницах пара несовершеннолетних школьниц. Заведующий надавил на директора школы, и Каретный опять остался. Учителя теперь изо всех сил тянули его до последнего класса – лишь бы окончил и исчез уже! А учился он так, как не учился никто – никак. Совсем никак. Но на уроки в последний год почему-то ходил, хоть и не регулярно. Весь этот год он сидел за первой партой среднего ряда, рядом с Яном Рубенсом – примерным отличником, хватавшим знания на лету… И даже, вроде, вел себя прилично. Учителя считали это заслугой Рубенса. И – в кой-то веки, они были правы!
Каретный наблюдал за Яном внимательно, стал собирать о нем информацию. А началось с того, что Рубенс нарисовал как-то в тетради во время урока портрет директрисы: злобная фурия, с волосами, превращающимися в веревки и червей, с вытекающими глазами, перегрызающая себе язык. Жуткий, чересчур натуралистичный рисунок. Потом какое-то время Олег задавал темы, а Ян рисовал в тетрадях сюжеты на них.
– Где ты научился так рисовать?
– Ты будешь смеяться – нигде. С детства умею.
Каретный ничего больше не спросил, но как-то Ян показал ему французский журнал, где был его портрет и репродукция картины, купленной крупным парижским музеем.
– Это мое.
– …Круто. Они купили?
– Да.
– А чего за музей такой?
Рубенс долго рассказывал его историю, описывал даже экспонаты, потом перешел на Лувр, на эпоху Возрождения, в которой Ян видел незаслуженно забытое современными художниками идеальное чувство красоты и гармонии, – именно то, чего так не хватает нынешнему миру. Рассказывал о сюжетах эпохи, о секретах красок и техник, о правилах композиции, о золотом сечении и перспективе, об эмоциональных и духовных открытиях и об ином, не религиозном отношении к человеку.
Из того, что говорил Ян, Каретный почти ничего не понял и не запомнил, но точно уяснил одно: его сосед по парте – абсолютно беспомощен в реальной жизни… потому что живет в каких-то других – видимо, чертовски интересных, но абсолютно нереальных мирах! Олег смотрел на него как на убогого, несчастного, почти как на инвалида! Он не видит опасности, не понимает, откуда может ударить жизнь, не готов принимать удары. Нет, Ян не слабый… он просто абсолютно беспомощный! Его же свалит любой ветерок, любой идиот! Как он живет-то среди людей? Ему бы в музее жить…
Олег разглядывал Рубенса и тихо радовался, что он – не такой.
Как-то раз Каретный пришел в школу после очередного недельного прогула, мрачный, тихо злой. Ян косился на него весь урок, а на перемене не выдержал:
– Я могу тебе чем-то помочь?
– С чего вдруг?
– Ну, я вообще, сижу с тобой за одной партой. Мне не очень комфортно, когда ты в таком состоянии.
– Пересядь.
– Ты удивительно вежлив сегодня.
– Как всегда.
– Да нет, гораздо вежливее!
– Не нравится – пересядь, – отрезал Олег.
– А есть еще варианты?
– Вариантов всегда много.
– Олег, мы так поссоримся.
– Да мне насрать.
– Тебя это устраивает?
– Я сказал: мне насрать.
– Договорились.
Весь урок они вели себя так, будто каждый сидел отдельно. Они бы так и разошлись, и возможно – навсегда, но Рубенс забыл в полке под партой рисунок. Каретный обнаружил его на перемене, достал и увидел свой портрет. Какой он был на этом портрете? Такой, каким хотел стать. Рубенс добавил ему лет, силы и жизненного опыта. С обычного тетрадного листа смотрел настоящий полководец… Черт возьми… как он это сделал?
Мы никогда не знаем, какие струны в душе таких людей, как Олег Каретный, еще могут звучать. Мы видим их жесткость и жестокость, черствость и равнодушие, непримиримость, эгоцентризм… и, в общем-то, не ошибаемся. Но в некоторых остается какая-то струна, неожиданно начинает звучать, встретив свой камертон. Неожиданно для самого человека. Он приглядывается, прислушивается, решает – сопротивляться или нет. А потом – либо признает ее право на существование, либо рвет ее и покрывается броней уже целиком.
Что-то вроде заботы. Что-то вроде компенсации за собственную жестокость.
– Спасибо, – выдавил из себя Каретный в начале следующего урока.
– За что?
– За то, что ты оставил в парте.
– Это я тебе принес.
– Я понял.
Каретный несколько месяцев изучал свою струнку, вчувствовался в нее, пробовал на звук и на вкус. И она ему понравилась. Он сравнил ее с тем, что уже имелось в его жизни, и на фоне хладнокровного, непробиваемого сообщества, собранного им вокруг себя в последние три года, эта струнка показалась ему какой-то фантастически живой. Единственная и последняя. Ему всего восемнадцать, но если он перережет ее сейчас, то больше никогда не услышит, как она может звучать.
Олег был первый и единственный, кто вычислил Яна с Денисом. Струнка натянулась и готова была вот-вот лопнуть: еще педиков мне не хватало! Но вечерами он иногда поглядывал на свой портрет, и вдруг отпустило: какая, в сущности, разница?! Его дело…
Записка, которую Олег подсунул Рубенсу под локоть, заставила Яна вздрогнуть: «Шифруйтесь четче. Вас выкупают».
– Это о чем? – спросил Ян после уроков. Он стоял у входа в школу, комкая листочек и глядя куда-то мимо Каретного.
– Ты знаешь о чем. И я знаю. Больше никто пока. Но слухи пошли.
– Какие?
– Тихие пока. Где-то спалились вы.
Рубенс наконец-то посмотрел Олегу в глаза. Маленькие, глубоко и близко посаженные, темно-карие, как два шуруповерта, они буквально целились.
– И давно ты нас?..
– Давненько.
– Как?
– Я вижу. Смотрят все. А вижу – я, – и Каретный хитро ухмыльнулся. – Сосед, я не просто так по всей школе главный, – и, подмигнув, он уже готов был уйти.
– Так почему ты мне морду не набьешь? – вдруг спросил Ян с отчаянным вызовом.
– А что, надо? – Олег остановился, прищурился, подошел к Рубенсу почти вплотную. – Знаешь, за что ты мне нравишься?
– Нет…
– За то, что, даже если боишься, идешь дальше. Уважаю тех, кто умеет идти поперек страха.
– Я не боюсь.
– Врешь… я чую. Чую твой адреналин. Печень ждет? – и он слегка толкнул Рубенса кулаком в живот. Ян промолчал, с трудом выдерживая вызывающе-экзаменующий взгляд Каретного. – Не бойся. Я тебе говна не сделаю, – Олег резко развернулся и пошел, не оборачиваясь, во двор дома напротив.
В тот вечер Каретный снова разглядывал портрет своего будущего… Что-то я стал сентиментален. Сдать его всей школе, – он надломил уголок листа, – а зачем? И так понятно, что разорвут. Голубизна его, конечно, портит… А ведь он меня разглядел… не хуже, чем я – его… Достойный соперник? Да какой он соперник! Что-то другое. Не враг, не противник. Кто же ты мне такой, сосед?
Он открыл дверь в комнату Рубенса.