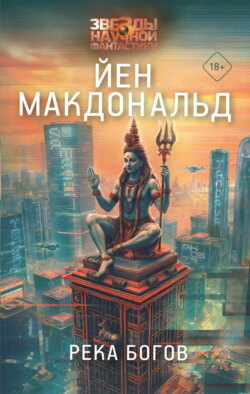Читать книгу Река Богов - Йен Макдональд - Страница 5
Часть первая
Ганга Мата [1]
4. Наджья
ОглавлениеЛал Дарфан, первой величины звезда мыльных опер, дает интервью в паланкине на спине слона, форму которого имеет дирижабль, движущийся вдоль южных склонов Непальских Гималаев. На звезде великолепная рубашка и широкие свободные брюки. Он откинулся на мягкую подушку на низеньком диване. Позади него стяги из кучевых облаков расцвечивают белым небесную голубизну. Горные вершины очерчивают неровную границу, создавая естественную преграду на пути устремляющегося в бесконечность взгляда. Бахрома паланкина со множеством кисточек треплется на ветру. Лала Дарфана, Бога Любви самой большой и самой популярной мыльной оперы студии «Индиапендент продакшнз» под названием «Город и деревня», развлекает павлин, который стоит у изголовья его дивана. Звезда кормит птицу крошками рисового крекера. Сам Лал Дарфан на диете с низким содержанием жиров. Об этом трезвонят все таблоиды.
Диета, – думает Наджья Аскарзада, – прекрасно подобранная причуда для виртуальной звезды. Она делает глубокий вдох и начинает интервью.
– Нам, живущим на Западе, трудно поверить, что «Город и деревня» может быть столь невероятно популярен. Тем не менее здесь к вам как к актеру интерес ничуть не меньший, нежели к вашему персонажу, Веду Прекашу.
Лал Дарфан улыбается. Его зубы именно так невероятно, ослепительно белы, как говорят на всех телеканалах.
– Значительно больше, – отвечает Лал. – Но, как мне кажется, ваш вопрос состоит в следующем: почему персонажу-сарисину нужен актер-сарисин? Иллюзия внутри иллюзии, ведь так?
Наджье Аскарзаде двадцать два года – журналист, фрилансер, в отношениях не состоит. Четыре недели находится в Бхарате и только что приступила к интервью, которое, как она надеется, реально раскачает ее карьеру.
– Поверьте в невероятное, – замечает Наджья.
До ее ушей доносится гул моторов дирижабля, каждый из которых установлен в одной из громадных ног слона.
– Дело обстоит вот как. Просто роли, просто персонажа публике всегда мало. Ей нужна роль, скрытая за ролью, будь это я, – Лал Дарфан с каким-то нарочитым самоуничижением касается руками диафрагмы под раздувшейся грудной клеткой, – либо вполне реальный, из плоти и крови, голливудский актер или поп-идол. Позвольте мне задать вам вопрос. Что вам известно о, скажем, такой западной звезде, как Блошан Мэттьюз? Только то, что вы видите по телевизору, то, что читаете в желтой прессе и узнаете из светских сплетен. А что вам известно о Лале Дарфане? Практически то же самое. Эти персонажи для вас не более реальны, чем я, но и ничуть не менее реальны.
– Но ведь люди всегда могут случайно столкнуться со знаменитостью где-нибудь на улице, встретить на пляже, в аэропорту или даже в обычном магазине…
– Неужели? А откуда вы знаете, что кто-то вот так, как вы говорите, случайно сталкивался со знаменитостями?
– Оттуда, что я слышала… А.
– Понимаете, что я имею в виду? Мы всегда получаем информацию от того или иного посредника. При всем уважении, я – реальная знаменитость в том смысле, что моя слава очень даже реальна. По сути, полагаю, в наши дни именно популярность делает реальным что угодно. Вы согласны со мной?
На создание голоса Лала Дарфана было потрачено полмиллиона человекочасов. Это голос запрограммирован, чтобы соблазнять, и он уже обвивает Наджью кольцами искушения. Лал вопрошает:
– Можно мне задать вам личный вопрос? Он совсем простой. Какое самое раннее ваше воспоминание?
Долго вспоминать не приходится: она всегда рядом, та ночь огня, хаоса и страха; она как иридий в геологических слоях жизни Наджьи. Отец берет ее с кровати, несет куда-то на руках, по всему полу разбросаны бумаги, в доме страшный шум, в саду мелькают огни. Это она помнит лучше всего. Конусы света фонарей, мечущиеся над розовыми кустами, они гонятся за ней. Бегство через весь жилой комплекс. Отец вполголоса проклинает мотор, всё пытаясь завести его, завести, завести. А свет фонарей всё ближе и ближе. Отец ругается, ругается довольно вежливо с учетом того, что полиция явилась арестовать его.
– Я лежу на заднем сиденье автомобиля, – говорит Наджья. – Лежу плашмя, стоит ночь, и мы очень быстро едем по Кабулу. За рулем отец, мать сидит рядом с ним, но я не вижу их из-за спинок кресел. Я понимаю, что они беседуют, но их голоса доносятся как будто откуда-то издалека. Да, еще включено радио. Родители прислушиваются, но я не могу ничего разобрать… – Сейчас она знает, что они ждали сообщения о нападении на дом и о том, что выписан ордер на их арест. До того момента, как полиция закрыла аэропорт, оставалось всего несколько минут. – Я вижу, как мимо меня проносятся уличные фонари, нахожу в их чередовании удивительный, хоть и однообразный ритм: вначале свет каждого из них падает на меня, затем на спинку моего сиденья, а потом исчезает в окне…
– Мощный образ, – замечает Лал Дарфан. – Сколько вам тогда было лет? Три, четыре?
– Еще не было четырех.
– У меня тоже есть самое раннее воспоминание. Именно благодаря ему я знаю, что я не Вед Прекаш. У Веда Прекаша есть сценарий, а я помню шаль с узором «пейсли», развевающуюся на ветру. Небо было голубым и безоблачным, и край шали вился где-то сбоку. Мне всё это видится словно в кадре, однако основное действие проходит за ним. Я вижу предельно отчетливо, как этот край шали хлопает на ветру. Мне говорили, что дело происходит на крыше нашего дома в Патне. Мама взяла меня наверх, чтобы уберечь от испарений, отравляющих всё внизу на уровне первого этажа, и я лежу на одеяле, а надо мной зонтик. Шаль незадолго перед тем выстирали, она висит на веревке и сушится. Странно, но веревка шелковая. Воспоминание о том, что она шелковая, не менее яркое, чем все остальное. Мне было самое большее два года. Вот. Два воспоминания. А, но тут вы скажете: ваше-то выдумано, а мое – настоящее. Но как это установить? Вполне возможно, вам что-то рассказали, а вы с помощью воображения превратили чужой рассказ в собственное воспоминание, однако оно может быть и ложным, искусственно созданным и имплантированным в сознание.
Сотни тысяч американцев считают, что их разум оккупирован серыми человечками-инопланетянами, которые загнали им специальный механизм в задний проход и таким манером контролируют их разум. Фантазия – и, вне всякого сомнения, ложные воспоминания, – но неужели из-за этого они становятся нереальными, поддельными людьми? В конце концов, из чего состоят наши воспоминания? Из белковых молекул с разным зарядом. В этом, думаю, мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. Дирижабль в виде громадного слона, глупая диковинка, которую сделали по моему заказу; наше представление о том, что мы летим над Непалом; для вас всё это лишь разнообразные сочетания по-разному заряженных молекул белка. Но так можно сказать о чем угодно. Вы называете то, о чем я говорю, иллюзией, а я называю это фундаментальным основанием моей вселенной. Полагаю, что я вижу ее весьма отличным от вас образом, но, опять же, откуда мне знать? Откуда мне знать, что мой зеленый цвет вы тоже воспринимаете как зеленый? Мы все заперты в маленьких коробках своих «Я» из кости или из пластика, Наджья. И никому из нас не суждено из них выбраться. Можем ли мы в таком случае доверять воспоминаниям?
Я доверяю, компьютер, думает Наджья Аскарзада. Я вынуждена им доверять, ибо то, что я есть, создано этими воспоминаниями. Причина, по которой я нахожусь в этом нелепом виртуальном чертоге удовольствий и болтаю со звездой мыльных опер, страдающей манией величия, – исключительно в тех самых давних воспоминаниях о свете и движении.
– Но в таком случае вы – как Лал Дарфан – сильно рискуете? Я имею в виду Акт Гамильтона относительно искусственного интеллекта…
– Копы Кришны? Хиджры Маколея, – ядовито произносит Лал Дарфан.
– Я это к тому, что для вас заявить, будто вы обладаете самосознанием – а именно об этом, как мне представляется, и шел разговор, – равносильно подписанию собственного смертного приговора.
– Я вовсе не говорил, что обладаю самосознанием или какими-либо чувствами, что бы все подобные слова ни значили. Я – сарисин уровня 2,8, и меня подобное положение вещей вполне устраивает. Я заявляю лишь, что я реален; настолько же реален, как вы.
– Значит, вы не смогли бы пройти тест Тьюринга?
– Я и не должен проходить тест Тьюринга. И не стал бы его проходить. Тест Тьюринга!.. Да что он доказывает? Давайте я вам опишу его. Классическая расстановка: две запертые комнаты и мерзавец со старомодным компьютерным монитором в центре. Посадим вас в одну комнату, а пиарщика Сатнама – в другую. Предполагаю, именно он организовал нынешнюю прогулку – с девушками работает, как правило, он. Он тот еще пижон. Мерзавец у монитора задает вопросы, вы набираете ответы. Стандартная процедура. Задача Сатнама – убедить мерзавца в том, что он, Сатнам, женщина. Он может врать, изворачиваться, говорить что угодно, лишь бы заставить поверить в эту явную ложь. Думаю, вы прекрасно понимаете, что ему не составит большого труда добиться успеха. И что, это на самом деле сделает Сатнама женщиной? Не думаю; а Сатнам так уж точно не думает.
Ну а теперь: в чем разница между этой ситуацией и по-
пыткой компьютера выдать себя за разумное существо? Может ли симуляция явления рассматриваться как само это явление, или же разуму свойственно нечто настолько уникальное, что делает его единственным в своем роде явлением, которое невозможно симулировать? Что доказывают все подобные эксперименты? Только нечто относительно природы самого теста Тьюринга как теста и кое-что относительно опасности доверия к минимуму информации. Любой сарисин, достаточно умный, чтобы пройти тест Тьюринга, будет достаточно умен и для того, чтобы названный тест провалить.
Наджья Аскарзада воздевает руки, изобразив притворную беспомощность и полную покорность неопровержимым доводам Лала.
– Должен сказать, кое-что в вас мне нравится, – говорит Лал Дарфан. – Например, вы не потратили целый час на глупые вопросы о Веде Прекаше, словно он и является истинной звездой. Однако это напомнило мне о том, что я уже должен начинать гримироваться…
– О, простите! Спасибо!.. – восклицает Наджья, пытаясь изобразить словоохотливую журналисточку, хотя на самом деле уже и рада оказаться вне сферы ментального влияния этого педантичного существа.
То, что, по ее планам, должно было получиться легким, поверхностным, ненавязчивым и слегка китчевым, превратилось в некий вариант экзистенциальной феноменологии с привкусом постмодернистского ретро. Наджья безо всякого восторга думает о том, что́ скажет ее редактор, не говоря уже о пассажирах трансамериканского
экспресса Чикаго – Цинциннати, достающих свои журналы из кармашков на сиденьях.
Лал Дарфан блаженно улыбается, а его кабинет начинает растворяться. Наконец остается только улыбка в стиле Льюиса Кэрролла, но и она постепенно исчезает в гималайском небе, да и само гималайское небо сворачивается и ускользает куда-то в самые дальние уголки сознания Наджьи. И вот она снова сидит в кабинете для рендеринга, в шатком вращающемся кресле, глядя на цилиндры белковых процессоров на стойках, которые уходят в перспективу помещения: настоящие научфановские мозги в банках.
– Он вполне убедителен, не правда ли?
Бальзам-афтершейв Сатнама-Немного-Пижона малость кричащий. Наджья снимает лайтхёк, все еще чувствуя некоторую спутанность сознания из-за полного погружения в атмосферу интервью.
– Я думаю, он думает, что он думает.
– Именно так мы его и программировали. – У Сатнама имеются медийные стиль, одежда и беззаботная уверенность в себе, но Наджья замечает у него на шее маленький трезубец Шивы на платиновой цепочке. – Правда в том, что сценарий для Лала Дарфана прописан так же четко, как и для его героя Веда Прекаша.
– Именно. В том-то и суть – в разнице между видимостью и реальностью. Если люди могут поверить в реальность виртуальных актеров, то что же еще они проглотят?
– Ну, не надо раскрывать все карты. – Сатнам улыбается, проводя ее в следующее отделение. Сейчас он очень мил, думает Наджья. – А здесь у нас «метамыльный» отдел, где Лал Дарфан получает сценарий, от которого, как ему кажется, он совершенно не зависит. И этот отдел ничуть не менее важен, чем собственно мыльный.
Отдел представляет собой помещение, забитое рабочими станциями. Перегородки из темного стекла: сотрудники работают здесь в полумраке, освещаемые мерцанием мониторов. Руки разработчиков движутся в нейропространстве. Наджья с трудом подавляет дрожь при мысли о том, что и она могла бы провести всю свою жизнь в подобном месте, куда никогда не попадает солнечный свет…
Случайный отблеск касается высоких скул, безволосого черепа, изящная тонкая рука приковывает к себе внимание Наджьи, и теперь уже она обрывает Сатнама:
– Кто это?
Сатнам вытягивает шею.
– А, это Тал, он новенький. Он занимается разработкой визуальных обоев.
– Мне кажется, следовало бы употребить местоимение «эно», – замечает Наджья, пытаясь получше разглядеть ньюта.
Не сказать чтобы присутствие здесь, в производственном отделе, представителя третьего пола было удивительно. В Швеции ньюты склонны выбирать творческие профессии, а самая популярная индийская мыльная опера несомненно должна их привлекать. Просто Наджья осознает, что всегда полагала, будто уходящая во тьму столетий история индийской транс- и квир-сексуальности до сих пор таится под спудом.
– «Эно», «оно», «он» – как вам угодно… Этих эно полно в наши дни. Вон, одного пригласили на важный прием с большими шишками.
– Юли. Русскую модель. Я попыталась пробиться на встречу, взять у него интервью. То есть у эно.
– Но променяли его на Толстого Лала.
– Нет, меня в самом деле очень интересует психология актеров-сарисинов.
Наджья не может удержаться и снова бросает взгляд на ньюта. Эно поднимает взгляд. Их глаза на какое-то мгновение встречаются. Взгляд Тала ничего не выражает, эно просто смотрит, холодно и равнодушно, затем вновь возвращается к работе. Руки эно очерчивают символы.
– Толстый Лал не знает, что персонажи и сюжет представляют собой базовые пакеты, – продолжает Сатнам, ведя Наджью среди мерцающих рабочих станций. – Мы продаем франшизу, и различные национальные каналы накатывают поверх них собственных актеров-сарисинов. В Мумбаи и в Керале Веда Прекаша играют разные актеры, которые в тех краях не менее знамениты и популярны, чем Толстый Лал здесь.
– Вся наша жизнь – лишь одна из версий, – замечает Наджья, пытаясь что-нибудь понять в изысканных движениях длинных пальцев ньюта.
Выйдя в коридор, Сатнам продолжает болтовню:
– Значит, вы и в самом деле из Кабула?
– Я уехала оттуда, когда мне было четыре года.
– Мне мало известны тамошние реалии. Уверен, они стоят того, чтобы узнать о них побольше.
Наджья резко останавливается и поворачивается к Сатнаму. Она на полголовы ниже, однако, увидев выражение ее лица, он делает шаг назад. Наджья хватает Сатнама за руку и чертит цифры у него на тыльной стороне ладони.
– Вот мой номер. Позвоните. Возможно, я отвечу. Могу предложить прогуляться, но если мы куда-нибудь и пойдем, то место буду выбирать я. Согласны? А теперь спасибо за экскурсию. Думаю, что выход смогу найти сама.
Когда Наджья на фатфате подъезжает к обочине, он уже стоит именно там и именно в то время, на которое они договорились. По ее просьбе Сатнам одет не в своем обычном вкусе, хотя на шее у него по-прежнему тришул. Наджья уже много их видала на улицах, у самых разных мужчин.
Он опускается на сиденье рядом с ней, отчего маленький авторикша покачивается на своем самодельном насесте.
– Расплачиваюсь я, помните? – спрашивает девушка.
Рикша въезжает в хаотическое коловращение трафика.
– Тур-загадка? Окей, это здорово, – отвечает Сатнам. – А вы написали статью?
– Написала и забыла, – говорит Наджья.
Она действительно наскоро отстучала сегодня статью на своем компьютере на террасе «Империал интернэшнл», пригородного общежития для рюкзачников, в котором снимает комнату. Наджья выедет оттуда сразу же, как только из журнала пришлют гонорар. Австралийцы действуют ей на нервы. Они стонут и жалуются по любому поводу.
Дело в том, что у Наджьи есть бойфренд. Его зовут Бернар. Приятель-империалист, взявший академический отпуск, двенадцать месяцев которого растянулись до двадцати, сорока, шестидесяти. Он француз, лентяй с отвратительными манерами, убежденный в собственной гениальности. У Наджьи есть подозрение, что Бернар живет в хостеле только ради того, чтобы цеплять новых девчонок – таких, как она. Но он практикует тантрический секс, и у него стоит с любой женщиной не менее часа: по крайней мере, пока он тянет свои песнопения. До сих пор тантра с Бернаром заключалась для Наджьи в том, что ей приходилось по двадцать, тридцать, сорок минут сидеть у него на коленях и тащить за кожаный ремешок, обвязанный вокруг его члена, затягивая петлю все крепче и крепче, заставляя член напрягаться все больше и больше, пока глаза Бернара не начинали лезть из орбит и он не восклицал, что Кундалини пошла вверх. Что означало – он наконец-то словил приход от наркоты. Наджья представляет себе тантру иначе. И бойфренда тоже. Сатнам не относится к мужчинам ее типа примерно по тем же причинам, что и Бернар, но все-таки это не более чем игра, развлечение, «почему бы и нет»? Наджья Аскарзада выжала из своих двадцати двух лет столько, сколько позволило ей чувство ответственности за эти «почему бы и нет?», которые и привели ее в Бхарат наперекор учителям, друзьям и родителям.
Нью-Варанаси переходит в старый Каши постепенно. Улицы начинаются в одном тысячелетии и заканчиваются в другом. Шпили небоскребов, взмывающих в заоблачную высь, соседствуют с запущенными проулками и деревянными лачугами, построенными лет четыреста назад. Виадуки метро и подвесные дороги проносятся мимо разрушающихся древних храмов, напоминающих дряхлые фаллосы из песчаника. Сладковато-приторный аромат гниющих цветочных лепестков перебивает даже постоянный выхлоп от спиртовых двигателей, смешиваясь с ним в урбанистический парфюм, которым города маскируют вонь бездонных клоак. Бхаратская железная дорога содержит дворников со специальными метлами для сметания цветочных лепестков с путей. Каши производит миллионы и миллионы лепестков, и стальные колеса не в состоянии с ними справиться.
Моторикша сворачивает в темный переулок со множеством маленьких магазинчиков и лавок. Бледные пластиковые манекены, безрукие и безногие – однако тем не менее улыбающиеся – покачиваются на крюках у них над головой.
– Можно ли узнать, куда меня везут? – спрашивает Сатнам.
– Вы очень скоро увидите.
А правда состоит в том, что Наджья здесь никогда раньше не бывала. Но послушав, с каким восторгом квохчут австралийцы о своей необычайной смелости, выражающейся в факте посещения загадочного места, которое у них, как ни странно, не вызвало ни малейшего отвращения, она только и искала повод отправиться в этот хорошо спрятанный клуб.
Она не имеет представления о том, где находится, но, когда болтающиеся на крюках манекены уступают место проституткам, стоящим в открытых магазинных витринах, понимает, что водитель везет их в нужном направлении. Большинство девочек явно переняли западную моду: они затянуты в лайкру и демонстрируют прохожим вызывающего вида обувь. Лишь немногие придерживаются местной традиции и сидят в железных клетках.
– Ну, приехали, – говорит рикша.
«Бой! Бой!» – восклицают неновые огни над крошечной дверью, расположенной между магазином индуистских ритуальных сувениров и чайной стойкой, за которой проститутки попивают лимонад «Лимка». Кассир сидит в уютной жестяной кабинке у самой двери. На вид ему лет тринадцать или четырнадцать, и его найковская шапка-бини видела уже всё в жизни. За ним начинается лестница, ведущая в поток ослепительного флюоресцентного света.
– Тысяча рупий, – говорит он и протягивает руку. – Или пять долларов.
Наджья платит в местной валюте.
– Я несколько иначе представлял себе наше первое свидание, – говорит Сатнам.
– Свидание? – переспрашивает Наджья, ведя его по лестнице, то поднимающейся, то вдруг резко сворачивающей в сторону, уходящей вниз и обрывающейся на каком-то балкончике над обширной залой.
Зала когда-то явно использовалась в качестве склада. Тошнотно-зеленый цвет стен, заводские лампы и воздуховоды, жалюзийные окна в потолке – всё говорит о прошлом этого помещения. Теперь оно превращено в арену. Вокруг пятиметрового шестиугольника, усыпанного песком, ряды деревянных скамей, расставленные амфитеатром, как в лекционной аудитории. Всё здесь изготовлено из промышленной древесины, украденной в Агентстве скоростных перевозок Варанаси, которое постоянно испытывает нехватку наличных денег. Стойки обиты упаковочными панелями. Наджья отнимает руку от перил и чувствует, что ладонь стала липкой – на ней смола.
Помещение бывшего склада распирает от народа: от кабинок, где делаются ставки, и мест бойцов у самого ринга до задних рядов балкона, где мужчины в клетчатых рабочих рубашках и дхоти залезли на скамьи, чтобы лучше разглядеть происходящее внизу. Публика почти полностью состоит из мужчин. Немногие женщины одеты в угоду мужским аппетитам.
– Я ничего не знал об этом месте, – говорит Сатнам, но Наджья чувствует дух набившихся в помещение тел, пот, первобытные запахи. Она протискивается вперед и смотрит вниз. Наличка быстро меняет владельцев за маклерским столом. Мелькают затрепанные банкноты. Кулаки сжимают веера рупий, долларов и евро. Сатта-мэны отслеживают путь каждой пайсы. Все взгляды устремлены на деньги, за исключением взгляда одного человека, стоящего прямо напротив нее у самой арены. Он смотрит вверх так, словно ощущает тяжесть ее пристального взгляда. Он молод и очень ярок. Явно из местных братков, думает Наджья. Их глаза встречаются.
Зазывала, пятилетний мальчишка в ковбойском костюме, ходит по залу, заводя аудиторию, а двое мужчин с граблями превращают окровавленный песок в дзенский садик. У мальчика на шее бинди-микрофон; голосок, одновременно и детский, и старческий, дребезжит, выходя из звуковой системы и накладываясь на звуки табла и миксы азиатского андеграунда. Слыша эту странную смесь невинности и опыта, Наджья думает: быть может, перед нею брамин? Нет, настоящий брамин находится в кабинке в первом ряду: на первый взгляд он кажется десятилетним пацаном, одетым как двадцатилетний парень. Его окружают девицы, будущие телестарлетки. Зазывала – просто очередной уличный мальчишка. Наджья видит, что он дышит часто и тяжело. И вдруг понимает, что рядом с ней нет Сатнама.
Шум, начавший уже было стихать, снова взрывается волной грохота и хриплых воплей, как только команды выходят на арену, чтобы продемонстрировать своих бойцов. Они поднимают их на руках высоко над головой, обносят вокруг ринга – так, чтобы все могли увидеть, за что платят деньги.
Минисаблеры – жуткие создания. Оригинальный патент принадлежит одной небольшой калифорнийской компании, занимающейся генной инженерией. Вмонтируй в обычного Felis Domesticus [11] восстановленную ДНК ископаемого Smilodon Fatalis [12]. Результат – карликовое саблезубое чудовище размером с крупного мейн-куна, но с клыками по моде верхнего палеолита и с соответствующими манерами. Названные создания пережили короткий период звездной популярности, после чего их владельцы обнаружили, что эти звери слишком часто становятся причиной исчезновения их собственных и соседских кошек, собак, дворовых рабочих из Гватемалы, младенцев. Компания, повинная в производстве маленьких монстров, заявила о банкротстве еще до того, как на нее посыпались исковые заявления, однако на права обладателей патента уже начали активно покушаться в бойцовских клубах Манилы, Шанхая и Бангкока.
Наджья с интересом наблюдает за атлетичной девушкой в спортивном кроп-топе и широченных шароварах, которая торжественным шагом обходит арену, подняв повыше своего чемпиона. Это большой, серебристого окраса полосатый кот с телосложением крошечного военного самолета. Гены убийцы! Роскошный, восхитительный монстр! На когти ему надеты специальные кожаные протекторы. Наджья видит, что девушка преисполнена гордости за питомца и любви к нему. Толпа ревет от восторга перед животным и его владелицей. Зазывала вспрыгивает на низкий подиум. Маклеры раздают кучу бумажных талонов. Соревнующиеся уходят в кабинки.
Девушка вонзает в кота шприц со стимулирующим средством, а ее коллега-мужчина подносит к носу животного специальное возбуждающее вещество. Они крепко держат своего зверя. Все затаили дыхание. На арену опускается мертвая тишина. Зазывала трубит в маленький горн. Соревнующиеся срывают с когтей своих питомцев протекторы и бросают животных на арену.
Толпа сливается в едином вопле, в общей жажде крови. Наджья Аскарзада ревет и бушует вместе с остальными. Единственное, о чем она сейчас способна думать, – это два бойцовых кота на арене, бросающиеся друг на друга, рвущие соперника клыками и когтями. Кровь приливает к ее голове, к ушам и глазам.
Все происходит с поразительной быстротой и жестокостью. Всего через пару секунд одна лапа милого серебристого полосатого кота уже болтается на лоскутах кожи. Кровь хлещет из открытой раны, но зверь издает страшный вопль, призывая противника продолжать поединок, пытается увернуться и атаковать. Он лязгает жуткими смертоносными зубами, однако почти тут же падает на спину и начинает извиваться в судорогах, взбивая тучи окровавленного песка. Победители уже подцепили своего чемпиона за ошейник и с огромным трудом пытаются оттащить злобную визжащую тварь в загон. Серебристый полосатый кот стонет и воет, наконец кто-то встает с судейской скамьи, подходит к нему и бросает на голову зверю шлакобетонный блок.
Девушка в кроп-топе еще некоторое время стоит и мрачно наблюдает за тем, как раздавленное существо утаскивают с поля боя. Она прикусила губу. Наджья обожает ее, обожает того юношу, с которым встретилась взглядами, обожает всех и всё здесь, на этой залитой кровью арене. Сердце бешено колотится, из груди вырывается горячее дыхание, она сжимает кулаки и дрожит, у нее расширены зрачки, а мозг пылает. Наджья жива на восемьсот процентов и пронизана каким-то неведомым ей доселе чувством. И вновь она встречается взглядом с местным братком. Он кивает ей, но Наджья видит: парень много потерял.
Победители выходят на ринг, и толпа восторженно бушует. Зазывала орет что-то в звуковую систему, а на маклерской скамье вовсю идет раздача денег… денег… денег… Вот зачем ты приехала в Бхарат, Наджья Аскарзада, говорит она себе. Чтобы вот так вот чувствовать жизнь, и смерть, и иллюзию, и реальность. Чтобы что-то прожгло насквозь эту чертову благоразумную, добропорядочную, толерантную шведскость. Чтобы почувствовать безумие и необузданность мира. Ее соски набухают. Наджья чувствует сексуальное возбуждение. Война, война за воду, война, которую она отрицает, привела ее сюда, та война, которой все страшатся и которая становится все более неизбежной. Наджья не боится этой войны. Она хочет ее. Хочет очень сильно.
11
Кот домашний (лат.).
12
Саблезубый тигр (лат.).