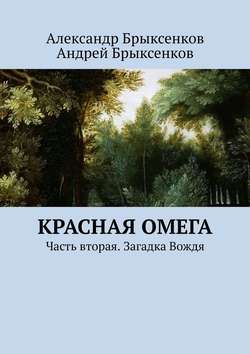Читать книгу Красная омега. Часть вторая. Загадка Вождя - Александр Брыксенков - Страница 20
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ, РАЗРАБОТКА, РЕПРИЗА
ОглавлениеВ период активного увлечения оперой Барсуков стал посещать и симфонические концерты. По первости симфонии показались ему обширными и суматошными, похожими на бурною стихию. Там, на взволнованную музыкальную поверхность беспорядочно, как казалось юному любителю музыки, всплывали куски мелодий, тут же увлекаемые в гремящую пучину водоворотами мощных аккордов и стремительных пассажей.
Однако очень скоро Барсуков понял, что симфония – это не стихия, а очень упорядоченная материя, разделенная, как правило, на четыре части.. Помог ему в этом понимании скромный справочник «Для слушателей симфонических концертов».
Из справочника следовало, что первая часть симфонии вовсе не сумбурный, как ему в начале казалось, набор мелодических отрывков, а стройная музыкальная форма, которая состоит из трех основных разделов. Первый раздел называется экспозицией. В ней композитор показывает главную тему (основную мелодию), за которой следует вторая мелодия (побочная тема). Затем идет разработка. В ней темы, показанные в экспозиции, развиваются, вступают в противоречие друг с другом. Мелодии сталкиваются, переплетаются. Неустойчивость, напряженность разработки разрешается в третьем разделе – репризе. Здесь композитор восстанавливает первоначальный облик тем и, либо примиряет основные образы, либо углубляет различие между ними. Такую структуру построения музыкального опуса специалисты называют сонатной формой.
Вторая часть симфонии носит лирический характер. В ней разворачиваются картины и проявления природы, человеческие чувства. Третья часть – это, обычно, вальс или скерцо (у старых мастеров – менуэт), где разрабатываются жанровые сюжеты, бытовые моменты. Финальная, четвертая часть является итогом, выводом из предшествующего и обычно носит оптимистическую направленность. Музыка здесь чаще всего – подвижная и упругая.
В справочнике все было изложено ясно и четко. Симфоническая же действительность была не такой простой. Барсуков никак не мог ощутить, где кончается разработка и начинается реприза. Симфонии могли быть не только четырехчастными, но и трехчастными и пятичастными. Финал совсем не обязательно излучал бодрость. Напаример, Шестая Чайковского заканчивалась так мрачно, что любой траурный марш по сравнению с этой концовкой казался вполне оптимистичным произведением. Условным оказалось и тематическое разграничение частей симфонии на лирические и жанровые. Многие композиторы этой условности не придерживались. Так, Вторая симфония Рахманинова – эта сплошная лирическая песнь в честь русской природы.
Барсуков решил, что в симфонии ничего не надо градировать и разграничивать. Нужно только чутко слушать музыку и душевно ощущать её сладость.
Очень скоро Барсуков начал получать удовольствие от прослушивания симфонической музыки. А затем настал период, когда прежде любимая им оперная музыка стала казаться шлягерной, неинтересной (за исключением опер Вагнера), и он полностью переключился на симфонии.
Переболев однообразными Гайдном и Моцартом, насладившись романтизмом Мендельсона и Шумана, оценив величие Чайковского и Бетховена, матерый Барсуков, уже в очень зрелом возрасте, увлекся творчеством Густава Малера.
Симфонизм Малера был высшей пробы. Потоки мелодий, великолепная оркестровка, философское содержание – все это, по мнению Барсукова, ставило Малера на самое первое место среди композиторов-симфонистов. Тем не менее симфонии этого австрийца (то ли из-за сложности исполнения, то ли из-за трудности восприятия) исполнялись очень редко и почти не звучали в эфире. Поэтому Барсуков приобрел диски с записями всех девяти симфоний Малера, привез их в деревню и с удовольствием проигрывал один за другим.
Малер питал слабость к медным и ударным. В его симфониях часто звучат военные сигналы, маршевые ритмы, громы сражений. На этом фоне Пятая симфония, мощные аккорды которой уже вовсю гремели в барсуковской хижине, имеет некоторые особенности. Нет, в ней тоже присутствуют четкие ритмы, и рокотом барабанов она не обижена, но есть в ней одна удивительная часть, в которой не участвуют не только медные и ударные, но даже и деревянные. Это Adagietto – совершенно потрясная в своей нежности и таинственности сладчайшая музыкальная композиция. В ней на нежный фон тягучей упоительной мелодии, исполняющейся струнными, мягко ложатся бархатные арпеджио арфы. И всеми фибрами души, независимо от настроения и сиюминутных дерганий, ощущаешь дурость и бренность окружающей тебя действительности.
Только Барсуков вздумал слить воду со сварившейся картошки, как в избе зазвучало это удивительное Adagietto. Уже через минуту ягодники, только что нудно бухтевшие за столом, замолкли. Волшебная музыка проняла и их, этих простых деревенских жителей.
– Ай, да музыка! Что это такое играют? – спросил более молодой ягодник своего старшего товарища.
– Это Малер. «Смерть в Венеции».
Барсуков от удивления чуть не выронил из рук кастрюлю с картошкой: простой мужик из глухой заречной деревушки знает Малера. Но удивление тут же сменилось острой настороженностью. В России малеровская Пятая симфония никогда не называлось «Смертью в Венеции». Так называют её только в европах, где любят разную звучную мишуру. А прилипло к ней это название после выхода на экраны фильма «Смерть в Венеции», в котором герой умирает под звуки Пятой симфонии Малера. В голове Барсукова нервно забился вопрос:
– Откуда простому селянину из затерянной российской глубинки известно европейское название этой симфонии?
Дождь прекратился, и ягодники засобирались домой. Они натянули на себя еще влажную, но очень хорошо прогретую печным жаром одежду. При этом Барсуков вновь, но уже с подозрением, уставился на одинаковое фирменное нижнее бельё ягодников. Он поинтересовался:
– Трикотаж у вас, мужики, хороший. Где купили?
– Сын из Латвии прислал, – поспешил ответить один из гостей.
Ягодники попрощались, неуклюже спустились с крыльца и, пересекая деревню, направились к камарской дороге. Когда Барсуков стал убирать со стола посуду, он под одной из тарелок обнаружил сотенную купюру, оставленную ягодниками. Это было все! Это было не по-нашему! В России гостеприимство всегда оплачивалось гостеприимством и никогда – деньгами.
Теперь Барсуков был почти уверен, что странные люди, посетившие его, – не жители Хмелевич, что они вообще не здешние. Чтобы проверить свои подозрения он отправился к тетке Дарье, которая прекрасно знала всю округу. Только он вошел к ней в избу, как хозяйка, процеживавшая на кухне молоко, спросила его:
– Кто это был у тебя, Ляксей?
– Ягодники. Сказались, что из Хмелевич.
– Ты что-то не то плетешь. Хмелевицкие в жисть к нам не хаживали. Ни за грибами, ни за ягодами. Этого добра у них у самих через верх.
Она немного помолчала и добавила:
– Да и ходить-то в лес там некому. На всю деревню три бабки древние, да дед Кузьма-контуженый.
– Может быть, к кому-нибудь из них гости приехали.
– Нет. Туда уже давно никто не приезжает…
Тетка Дарья продолжала что-то говорить, но Барсуков уже её не слушал. В голове, как колокол, бухало:
– Это шпионы! Это шпионы! Это шпионы!
Полчаса спустя Барсукова можно было видеть на камарской дороге. Он, громко ругаясь, протаскивал через грязь и лужи свой боевой велосипед. Пробивался он к шоссе, имея намерение добраться до Шугозерского отделения милиции и сообщить официальным лицам о подозрительных, шпионского вида, личностях, которых он ныне потчевал картошкой.
Ругался он не потому, что на скользкой дороге было трудно управляться с велосипедом. Эти упражнения за время проживания в Камарах стали для него привычными. Извержение же мата происходило по причине обычной барсуковской нерешительности. Таким образом он подбадривал себя, поскольку опасался как бы его в милиции не подняли на смех. Мол, какие еще шпионы? В нашей-то глуши?
Он уже хотел было вернуться домой, но подумал: «Посмеются, не посмеются, а ехать все равно надо: хлеб кончился. Пройдусь по магазинам, попью пивка, куплю хлебушка, да заодно и помоюсь. Баня-то, наверное, еще не остыла».