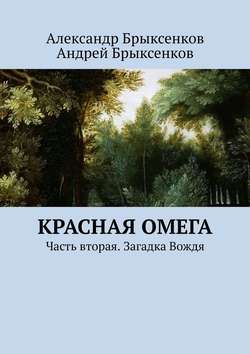Читать книгу Красная омега. Часть вторая. Загадка Вождя - Александр Брыксенков - Страница 3
ГЛАВА ПЕРВАЯ
РЯДОВОЙ КРЮКОВ
ОглавлениеПрозвучала команда: «Приготовиться к отбою!». Солдаты разведроты потянулись кто в сортир, а кто в курилку. Выполнив в этих общественных местах два весьма нужных предотбойных мероприятия, измотанные за день российские воины с наслаждением возлегли на тощие матрасики своих железных коек.
В положенное время дежурный по роте проорал:
– Р-р-рота! Отбой!
Дневальный вырубил основной свет. Темноту казармы тоскливо подсинило тусклое ночное освещение. Осуществив это действо, страж солдатского покоя подошел к своей тумбочке, стал по стойке «смирно» и четко проскандировал традиционную для роты формулу:
– Слушай, р-р-рота! Еще один день п…й накрылся!
Со скрипучих коек рота дружно выдохнула:
– Да, и х.. с ним!
Выдохнула и немедленно погрузилась в темную зыбь сладчайшего сна. Вместе с ротой погрузился в зыбь и первогодок Дима Крюков.
Юность Димы пришлась на период, когда великая страна, где он жил, называлась «страной героев, страной мечтателей, страной ученых». И это не было бодреньким пропагандистским клише.
Бородатые геологи настойчиво пробивались в пустыни и заполярную тундру, открывая нефтяные месторождения, залежи алмазов, золота, урана. Энергетики создавали гигантские ГЭС, врубались в тайгу для прокладки многокилометровых ЛЭП, эксплуатировали мирный атом. Строители на крайнем севере возводили города; мелиораторы на юге строили каналы, соединяли реки. Ученые упорно и плодотворно раскрывали тайны природы. Инженеры и конструкторы создавали невиданные подводные, надводные и воздушные корабли. Космонавты, невзирая на смертельный риск, совершали чудеса в космосе. Страна бурлила, ходила ходуном и вообще устремлялась…
Ясно, что в такой стране и идеология была соответствующая. Она звала молодежь на свершения, на открытия, на подвиги.
Выпускников средней школы привлекали романтические профессии, и также профессии, где требовалось наличие хорошо организованных мозгов. Громадной популярностью пользовался университетский физмат, Макаровка, Корабелка, Военмех, кафедры электроники и радиотехники, Горный институт, высшие военно-морские инженерные училища, Техническое училище им. Баумана. Конкурс в эти ВУЗы был огромный. Поэтому туда подавали свои документы умненькие юноши и девушки, имевшие в аттестате зрелости отличные и хорошие оценки. Троечникам там делать было нечего.
Наименее уважаемыми институтами были следующие: библиотечный, текстильный, сельскохозяйственный, торговый, культуры, холодильной промышленности, экономический и тому подобные. Молодежь с посредственными знаниями валила именно в эти непристижные институты, где практически не было конкурса.
Среди абитуриентов по рукам ходили разнообразные рифмованные рекомендации. Вот одна, очень характерная:
– Поступайте, дуры,
В институт культуры.
Поступайте, б…и
На журфак, не глядя.
Иногда вместо журфака фигурировал медфак.
Сейчас поневоле думаешь, что может быть потому у нас такая убогая экономика, недалекая пресса, низкая культура, смешное здравоохранение, хреновое сельское хозяйство, что в этих отраслях осели специалисты-троечники.
Дима очень успешно сдал школьные выпускные экзамены и намеревался поступать в Лесотехнический институт. Он очень любил лес и, в целом, природу. Против этого несерьезного намерения решительно выступала Анна Матвеевна:
– Что это за профессия: лесничий? Или лесовод? Чушь какая-то. То ли дело: инженер-кораблестроитель! И специальность везде востребованная, и в армию не заберут (в Корабелке есть военная кафедра), и стипендия неплохая.
Долго и упорно Анна Матвеевна обрабатывала сына. И не безрезультатно. Послушался Дима свою маму и начал учиться строить корабли. Начал, но не закончил: учеба в Кораблестроительном институте ему не понравилась. Уж очень сухие, скучные дисциплины. Что теоретическая механика, что ТММ. А сопромат вообще состоял из сплошных тау и сигм, которые вбивал в головы студентов толстобрюхий с маленькой головенкой профессор, сам в профиль похожий на греческую букву сигму.
Разочарованный Дима покинул институт, чтобы все-таки посвятить себя лесному делу. Тут-то его и прихлопнула призывная повестка из военкомата.
Гражданские мудрики считают, что солдат думает только о том, как бы ему бабца наколоть. Конечно, если солдат несет службу в каком-нибудь лакейском подразделении или выполняет обслуживающие функции, то да, обязательно думает. В частях же, по-настоящему занятых боевой подготовкой, от бабца солдат, понятно, не откажется, но думает он чаще всего о том, как бы ему половчее вздремнуть, да побольше поспать. Особенно это характерно для солдат разведывательных подразделений. Они, в силу своей профессиональной специфики, постоянно находятся в движении.
Разведрота, в которой служил Дима Крюков, не была исключением. Она все время бежала. Это происходило в соответствии с планом боевой подготовки, а еще и потому, что осенью дивизия должна была участвовать в крупных учениях, где разведке отводилась очень заметная роль. Марш-броски на 10, 15, 20 километров, кроссы по пересеченной местности, тренировки в беге на 1, 3, 5 км. Вдобавок к этому, учения по преодолению водных преград как вплавь, так и на подручных средствах, ориентировка на местности, отработка приемов рукопашного боя, ежедневные упражнения для развития силы и выносливости… Всего не перечтешь!
После всех этих тренировок и упражнений сухощавые, без грамма жиринки разведчики рухались в сон при первом удобном случае. Они могли спать на броне грохочущего танка, на огневом рубеже, уткнувшись в бруствер, и даже на унитазе.
Когда Анна Матвеевна получила фотографию сына, где он был запечатлен с лопатой в руках на фоне какого-то барака, она долго плакала. Её мальчик смотрел со снимка на маму громадными глазами, оттененными черными кругами. Кроме глаз в дистрофический гарнитур входили впалые щеки, громадные уши и тонкая шея. Показывая фотографию сына своим приятельницам, Анна Матвеевна горестно вздыхала:
– Вылитый узник Освенцима!
Анна Матвеевна ежемесячно посылала Диме некоторую сумму. После получения пугающе сюрреалистического изображения сына, она эту сумму удвоила. И очень правильно сделала. Потому что не только бабцы, но и сон занимает не главное место в солдатских думах. Главное же, о чем постоянно думает солдат – как бы поесть.
Раньше-то, при Романовых, солдат о еде не думал. Он ежедневно получал, кроме всего прочего, около двух фунтов мяса. При таком харче он спокойно достигал и Берлина, и Парижа, и Рима, не говоря уже о Бухаре и Баязете. В наши дни опыт демократической России дополнительно подтвердил зависимость боевого духа солдата от качества и количества потребляемой им пищи. Оказалось, что если солдата плоха кормить, так он и до собственных границ (например, до чечено-грузинской границы) дойти не сможет.
Больше всех в разведроте голод мучил Диму Крюкова. И все из-за его непомерной брезгливости. Проявилось это его качество тогда, когда дивизию стали обильно кормить парной гусятиной. Гусиное мясо было везде. И в каше, и в картошке, и в щах, и в гороховом супе. Не клали его лишь в компот.
Известно, что армию свежатинкой не балуют. Периодически в государственные и армейские стратегические хранилища закладываются очередные порции продовольствия. Понятно, что ранее заложенные на хранение продукты, срок реализации которых истек, не уничтожаются. Они направляются в войска. Солдаты привыкли к продуктам такого рода, а также и к прочим простецким бакалейным товарам, типа перловки. А тут вдруг, на тебе, парные гуси!
На первых порах и Диму, и его сослуживцев появление в меню блюд с гусиным мясом (вместо обыденных консервов и концентратов) очень вдохновило. Но продолжалось это чувство не долго. Ну, сами подумайте: неделю – гусятина, вторую – гусятина. Так и на хамсу потянет.
На третью неделю гусиной вакханалии народ уже не мог терпеть даже запаха, который шел от кухни, когда на её дворе повара опаливали тушки птиц. Когда же стало известно, что такое деликатесное изобилие излилось на солдат по причине массового падежа гусей на ближайшей птицефабрике, аппетит бойцов стал совсем никакой. Дима же вообще перестал принимать и первое и второе. Он перешел на хлеб с горчицей и на чай. Но не все пренебрегали падалью. Старослужащий Фаддеев, который в столовой сидел за одним столом с Димой, был прост и небрезглив. Он с удовольствием съедал и свою обеденную порцию и нетронутую Димину.
Когда, наконец, павшие гуси были съедены и народ перевели на прежнюю, привычную пищу, Дима снова стал питаться как все. Этот факт с сожалением воспринял боец Фаддеев, так как ему очень понравилось в период Диминого воздержания трескать по двойной обеденной порции. Чтобы и впредь, хотя бы иногда, иметь такую приятность, он решил сыграть на повышенной брезгливости своего соседа. За обеденным столом Фаддеев стал рассказывать какие-то уж совсем гнусные истории из жизни и быта своей псковской деревни. Иногда он добивался своей цели: Дима не выдерживал и выскакивал из-за стола.
Вот и в этот обед. Едва взглянув на блюдо мелко нашинкованной свеклы, политой густым желтоватым соусом, Фаддеев для начала бросил:
– Во! Буряк-то желтыми соплями помазали, да еще и взбитыми.
Он взглянул на Диму и предположил:
– Вкусно, наверное. Они вонюченькие и соленые. Возможно, что и от покойника…
Голодный Дима медленно шел по направлению к солдатскому буфету. Он шел к тете Маше, благодетельнице всего полка. Она кормила солдатиков не только за наличные, но и в долг. Самыми ходовыми яствами у неё были горячие пончики с повидлом и плитки долгоиграющих ирисок. Вот именно эти яства, конечно в долг, и заказал Дима. Тетя Маша достала тетрадку, заведенную на разведроту, нашла Димину фамилию. Под фамилией шел длинный перечень уже потребленного разведчиком продукта. Тетя Маша поставила число, наименование выданного провианта и сумму. После чего сказала:
– Что-то ты, сынок, много поднабрал уже.
– Ничего, тетя Маша. Я скоро деньги получу и расплачусь.
– Поди, мать пришлет?
– Ага.
– А кем она работает-то?
– Экономистом.
– Ну, значит не богачка.
– Да, уж куда там.
Дима нацедил из бака, стоявшего на прилавке, кружку бесплатного чая, прошел в угол и уселся за стол. Он уминал поразительно вкусные пончики и все думал и думал, как бы ему угомонить обнаглевшего Фаддея. Ведь если так будет продолжаться и впредь, то на регулярную поупку пончиков ему никаких мамкиных денежных переводов не хватит.
Салют, тётя Маша!
Морду Фадею не начистишь: старослужащий. И не только поэтому. Фаддеев был раза в полтора крупнее Димы. Такого не уделаешь. Долго думал расстроенный первогодок и, наконец, кое-что придумал.
В очередное воскресенье Дима после завтрака не пошел на стадион, где должны были встретиться футбольные команды танкистов и артиллеристов. Он отправился в лес, на болото. После двухчасовых поисков молодой разведчик выследил и поймал крупного ужа. Посаженное за пазуху безобидное пресмыкающееся по первости нервничало, а потом пригрелось и затихло.
Перед обедом Дима зашел в бытовку, где Фаддеев, готовясь в увольнение, гладил брюки. В помещении было сумрачно. На это и рассчитывал змеелов. Он подошел к своему притеснителю вплотную.
– Тебе чего? – распрямился Фадеев и оцепенел. Прямо перед его лицом покачивалась и шипела змеиная голова. Все в роте знали, что Фадей панически боится змей. Учитывая это, Дима медленно произнес:
– Если ты, гнус, еще раз скажешь гадость за столом, я тебе ночью под одеяло гадюку запущу. Понял? …Понял, спрашиваю!?
– Пошел ты… – вякнул, отступая к стенке, обескураженный Фаддеев.