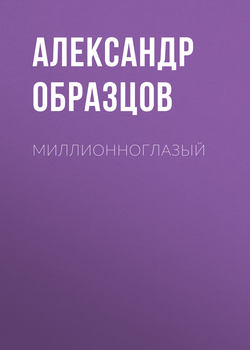Читать книгу Миллионноглазый (сборник) - Александр Образцов - Страница 20
Павел Первый
ОглавлениеПавел Петрович во время своего путешествия в Европу писал из Италии в Россию митрополиту Платону: «Мы проезжаем разные земли и правления, но в сих странах кроме картин и тому подобного нечего смотреть! Разве плакать под развалинами древних, показывающих, что человек может, когда хорошо управляем…»
Им показали Колизей, свезли на Капитолий. Павел инкогнито гулял по городу и заглядывал в антикварные лавки. Там он купил много подделок, думая, что покупает оригинальные вещи.
Такова была вся его жизнь: он знал как и что делать, чтобы стать великим императором, а делал всё как частное лицо, руководствуясь своими капризами.
Можно понять его великую и ужасную мать, которая с недоумением наблюдала рожденного ею вместо льва мышонка.
Однако не всё так просто. Семья Романовых не знала линейных истин. И ничтожный сын своей грандиозной матери часто бывал выше ее, тоньше, трагичней.
Павел всегда ощущал себя словно на сцене. «Хорошо ли я выполняю мою роль?» – спрашивал он князя Николая Репнина во время коронования на царство.
«Как только Павел появлялся на публике, он начинал ходить размеренным шагом, как будто играл роль в трагедии» – говорил современник Адам Чарторыйский. Он делал усилия казаться выше своего роста, и быть похожим на Людовика Четырнадцатого.
Эти злые придворные свидетельства похожи на выгодную всем ложь. Достаточно вспомнить жизнь Павла с раннего детства и то, что он всегда помнил об участи своего отца, этого странного насмешника Петра Третьего.
В детстве Павел часто стоял у стола матери и смотрел, как она играет в карты. Екатерина с ним почти не разговаривала. Два-три дежурных слова. Он хотел ее внимания, капризничал, но вынужден был отправляться к себе, в свое одиночество.
«У него умная голова, – говорил всё в той же придворной манере один из его остроумных наставников, – но в ней находится маленький механизм, который висит на волоске».
Воспитатель и учитель математики Семен Порошин, бывший адъютант Петра Третьего, отмечал, что воспитанник любит смотреть на небо, мечтателен, делает каждый день наблюдения, как и куда тучи идут. «Когда большие и темные тучи, тогда часто осведомлялся, нет ли опасности… Он любил сидеть один в комнате и слушать, как воет ветер. У него были все задатки художника, философа или помешанного…В глазах цесаревича … угадывался какой-то соблазн».
Растопчин впоследствии уверял, что добился отмены объявления войны Англии, только согласившись пропеть одну из любимых оперных арий императора.
Канцлер Бестужев-Рюмин пытался убедить Священный Синод, ввиду слабого здоровья наследника, позволить Екатерине брачный союз с Григорием Орловым. В ответ Панин усадил наследника в седло и заставил преодолеть двенадцать верст галопом. Затем Павел явился в большой салон, где собрался весь двор. Заляпанные грязью сапоги Павла свидетельствовали, что он совершил прогулку верхом через весь город, а следовательно – вполне здоров. Народ с радостными криками устремлялся за цесаревичем, когда видел его на улицах столицы. Павел часто бывал веселым, оживленным, выпрашивал у матушки через Панина чины для своих учителей.
Как-то он написал сатирическое письмо турецкому посланнику и чуть было не отправил его: «Господин посланник, – якобы писал Павел, – понеже вы видом козлу, нравом медведю, а умом барану уподобляетесь, милости просим вон».
Надо думать, что без молчаливого одобрения этих слухов Екатериной они не посмели бы появиться.
Его сердце требовало нежности. Очень рано он пытался найти выход для себя в любви к женщине. Его чувства были платонического свойства – он был плоть от плоти немецкий романтик. Он ждал от любовниц душевного понимания и сердечности. В четырнадцать лет Павел влюбился во фрейлину Веру Николаевну Чоглокову. «С какой грациозностью она делает реверансы!» – восклицал он. Павел подарил ей конфеты с ароматом бергамота в форме сердца, стал изучать танцы у француза месье Гранже, и часто смотрелся в зеркала. Екатерина наконец-то была довольна. Долой мрачные мысли, долой мысли об участи отца! Она пригласила в императорскую ложу комедиантку мадемуазель Кладиш, которая в любой момент могла удовлетворять вкусы самых привередливых мужчин…
Но Павел всегда будет романтически относиться к артистам. В юности он отважился выйти на сцену в роли Гименея в балете «Галатея и Ацис», окруженный молодыми танцовщицами. В пору его недолгого царствования артист французской труппы Фрожер получил право входить в кабинет государя. Часто видели, как император прогуливался с ним рука об руку. Фрожер был остроумным и дерзким, отпуская иногда шутки в адрес великих князей или изображая их. Павлу, судя по всему, нравилось это, поскольку сам он лишен был находчивости и остроумия.
Первая жена Павла Петровича, немецкая принцесса Вильгельмина, получившая в крещении имя Натальи Алексеевны, также развлекала мужа маскарадом, фейерверками и очень любила театр. Как ей нравилось появляться в спектаклях вместе с Павлом и несколько раз переодеваться в течение спектакля! Великий князь с молодой женой забыл о мигренях, он увлечен! С легкой руки Натальи Павел стал интересоваться французской литературой, в Париже был заведен свой литературный агент, Лагарп, – он станет потом воспитателем его старшего сына Александра.
Через три года после свадьбы Наталья Алексеевна умерла при родах. Говорили, что отцом ребенка был не Павел, а лучший друг цесаревича граф Андрей Разумовский. Екатерина сочла нужным показать сыну тайную переписку жены, чтобы он слишком уж не страдал от ревности. Удар был беспощаден. Павел окончательно убедился в том, что он приговорен быть участником тайной и великой трагедии, которая создается на небесах. Мир – это скорбный театр… В письме к посланнику в Дании барону Сакену он писал:
«Я рассматриваю этот нанесенный мне суровый удар, как испытание, посланное мне Господом… Это Он создал меня, только Ему одному известно, на что он меня предопределяет и только ему одному известен конец всего, что здесь происходит с нами!»
Через пять месяцев он женился вторым браком на другой прусской принцессе, Софии Доротее, окрещенной Марией Федоровной. Екатерина подарила им Павловск. Тактика была ясна: их удалили от двора, и предложили вести почти деревенскую жизнь. «Нахожу в Павловске удовольствие свое, сие удовольствие ни с кем мы не делили, сие удовольствие ничем не приобрели», – меланхолически писал Павел.
В Павловске каждое здание, каждый павильон, любая дорожка и даже сама речка Славянка носили на себе печать томной женственности Марии Федоровны. Что делать, обоих сыновей, первенцев Александра и Константина, забрала для воспитания самодержавная свекровь. Мария Федоровна посвятила себя занятиям искусством. Им с мужем предстояло вести жизнь животных, воспроизводящих наследников трона.
Она рисовала, делала камеи, резала по камню и сентиментально посвящала свои труды отобранным детям. Интерес к искусству, как она думала, позволит ей хоть немного сблизиться с Екатериной. Мария Федоровна нарисовала портрет фаворита императрицы Ланского, выточила камею, изображавшую ряд бюстов – профилей всех своих детей и преподнесла свекрови. Жаль, близорукость не позволяла ей много гравировать и рисовать! Живопись часто заменяла музыка, Мария пела арии, – иногда низким голосом, с хрипотцой подпевал ей Павел. «Мой мир невелик, но я чувствую себя в нем госпожой» – утешала себя Мария.
В Павловске устраивались шарады и живые картины. Строилась бутафорская сцена, раскрывался ряд бутафорских картин, зачастую показы проходили прямо на открытом воздухе. В шарадах участвовало павловско – гатчинское великокняжеское общество. Избранная публика, которая умудрялась дружить и с Марией Федоровной, и с Павлом. Это было довольно трудно, поэтому гости рассаживались иногда на две стороны: гости Павла, и гости Марии. За его столом все чаще бывала фрейлина Екатерина Нелидова.
Нелидова была полной противоположностью императрице, маленькая, смуглая, с блестящими черными волосами, и до того умна и любезна, что всякий, кто говорил с ней, забывал, что она дурна собой. Нелидова была платонической страстью Павла. В одном из писем к матери, он «перед Богом и людьми» протестовал против людской злобы, дающей ложное толкование «связи, исключительно дружественной». Незамужняя Нелидова была для него символом чистоты… Находясь однажды в Смольном, Павел проник в комнату Нелидовой и воспроизвел сцену Фауста в комнате Маргариты. Он отдернул занавеси кровати и с восторгом воскликнул: «Это храм непорочности, это храм добродетели, это божество в образе человека!»
В Павловске Мария Федоровна хотела воскресить свою родину, свой прусский Этюп, имение, где она провела детство и юность. В 1785 году она сама сажала деревья около Павловского дворца, создавая «семейную рощу». Каждая постройка напоминала ей о чем-либо из жизни семьи: о примирении с мужем, о приезде короля Иосифа Великого, о рождении детей. Она не любила лишь Александрову дачу, построенную по приказу Екатерины. В ней проводил лето Александр, находившийся под полным влиянием бабушки, отделенный от материнской ласки. Мария забросила эту дачу и потом продала ее.
Павел все чаще стал задумываться о путешествии в Европу. Екатерине предстояли большие перемены в правительстве, и она решила отправить сына путешествовать, чтобы он в очередной раз не мешал ей. Каждый вечер Павел с Марией склонялись над большими картами. Псков, Полоцк, Могилев, Киев… Потом устремиться за границу. От обычной меланхолии Павла не осталось и следа. Свита, сопровождавшая царскую чету, была большая. Это был настоящий царский выезд, несмотря на то, что чета путешествовала инкогнито, под именем графа и графини Северных. Екатерина подарила сыну печатку с изображением Полярной звезды.
В Вене решено было сыграть в его присутствии в придворном театре «Гамлета». Но актер Брокман заявил, что тогда в зале окажутся два Гамлета, и представлять Шекспира в такой ситуации по меньшей мере бестактно.
В Венеции для них устроили гонки на ловких, похожих на феерические гробы, гондолах. Базилика Святого Марка вызвала восхищение цесаревича.
В Альпах Цесаревич был очарован зрелищем природы, но его пугали заоблачные перевалы, покрытые снегом. Он не предполагал, что именно на этих перевалах вскоре Суворов обессмертит русскую армию.
Они въехали в Париж 18 мая 1782 года, на следующий день Павел уже побывал в Версале. Он присутствовал при параде рыцарей святого духа, который привел его в неописуемый восторг. В честь гостей был дан концерт в салоне Мира. Они были в Севре и Марли, завтракали в Трианоне.
Павел познакомился с модными французскими писателями. Бомарше просил его, чтобы он посодействовал снятию запрета с «Женитьбы Фигаро» Для Павла было организовано чтение этой пьесы, ему понравилось. Мария и Павел посетили также мануфактуру знаменитых красильщиков Гобеленов, Дом инвалидов, Собор Парижской Богоматери, мастерские Жана Греза и скульптора Гудона. Путешествие удалось. Но всякий праздник кончается.
Дорога домой вызывала уныние. «Если чему обучило меня путешествие, то тому, чтобы в терпении искать отраду», – неожиданно сказал Павел. По приезде домой Марии Федоровне приказано было отказаться от всех нарядов, которые она привезла из Франции. Началась прежняя жизнь. «Наш образ жизни невесел, так как совсем невесел наш дорогой государь. Он носит в душе глубокую печаль, которая его снедает, от этого страдает его аппетит и улыбка редко появляется на его устах», – писала Мария Федоровна.
Павел тайно мечтал о своем императорском будущем. В 1783 году ему была подарена Гатчина. У Павла появилась своя собственная малая армия. Павел подражал Потсдаму, где король Фридрих, изменяя обществу Вольтера, каждое утро дрессировал своих гренадер. Павел решил сделаться героем идеальной нравственной высоты. Он готовился быть отцом страны. Судя по всему, в это время Павел был тайно посвящен в масоны сенатором Елагиным в его собственном доме в присутствии графа Панина. Московские масоны составляли нравственную оппозицию правительству Екатерины. Баженов приносил ему книги от масонов. Мария Федоровна масонских книг боялась.
Но после революции во Франции Павел заявил, что «принимаю Баженова как художника, а не как масона. О них же и слышать ничего не хочу, и ты рта не разевай о них говорить».
Накануне смерти Екатерины ему было во сне видение. Незримая сила возносила его к небу, он просыпался в недоумении и опять засыпал.
Его коронование проходило в Кремле 16 апреля 1797 года. Придворные должны были явиться в пять, а дамы в семь утра. Павел хотел, чтобы в его одеянии к традиционной пурпурной мантии был прибавлен далматик, одежда восточных государей, похожая на епископскую мантию. Он видел себя главой православной церкви и хотел священнодействовать, служить литургию, исповедовать свою семью и приближенных. Павел заказал себе церковные облачения и упражнялся в чтении требника. Но Святейший синод запретил Павлу совершать литургию, так как по канону делать это священникам,
женившимся вторично, было запрещено. Павел был кроток в отношении веры и согласился с этим замечанием, а также снял в алтаре шпагу по требованию митрополита.
Однажды на водосвятии при двадцати градусах мороза он потребовал, чтобы присутствующие были без шуб, в шелковых чулках и бальных башмаках. Когда ему вечером доложили, что кто-то слёг, он ответил: «Мне было жарко!».
Общественная жизнь в стране мгновенно изменилась. Павел Петрович закрыл частные типографии, сократил издание книг, стали издаваться преимущественно учебники. Было запрещено ввозить книги из-за границы. Впрочем, это связано было во многом с Французской революцией. Из Европы были вызваны русские студенты. Взамен был открыт университет в Дерпте.
В список шестисот тридцати девяти произведений, запрещенных в 1797 году, было включено «Путешествие Гулливера». Фразу в пьесе «опаленный огнем любви, я должен ехать в Россию, там, вероятно, очень холодно» по желанию Павла надлежало заменить словами «Я хочу ехать в Россию, там одни только честные люди». Сегодня эта фраза звучит в иной тональности – она не столько пародийна, сколько трагична.
На придворных балах Павел отменил вальс как неприличный танец. Но стоило его новой пассии Анне Петровне Лопухиной огорчиться этим, как он тут же отменил запрещение. Яркий малиновый цвет был ее любимым цветом, и последовала другая реформа: мундиры гвардейских офицеров должны были окраситься в малиновый. Анна Петровна была единственной дамой в России, получившей мальтийский орден.
Дворец Михаила Архангела, этот новый алтарь империи, строили на протяжении всего царствования Павла. Было потрачено шесть с лишним миллионов, сумма вполне приличная для проведения небольшой победоносной войны. К 1801 году дворец был закончен. По легенде, часовому, стоявшему в карауле у летнего Дворца, в котором когда-то родился Павел, в глухую ночь «явился старец с сединами вида важного и почтенного и повелительным образом сказал, чтоб Павел велел на этом самом месте немедленно воздвигнуть храм». В этом старце узнали будто бы архангела Михаила. Солдат передал повеление, и император сказал, что архангелу Михаилу нужно повиноваться, «что сам уже получил внушение построить церковь и имеет план ее. На этом месте я родился, здесь хочу и умереть» – сказал Павел.
Мечта о сказочном замке распаляла его. Царь помогал строить замок своими рисунками и чертежами. Однако Баженов высказал ряд замечаний по поводу плана и еще до начала строительства был смещен с должности архитектора замка. Бренна взялся творчески переработать проект Павла, сохранив его мысли и идеи…
Вечером, во время ужина 11 марта 1801 года императору преподнесли великолепный сервиз с изображением замка. Царь был в чрезвычайном восхищении, целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это один из счастливейших дней его жизни.
В ту же ночь он был убит в собственной спальне. Заговорщикам показалось в начале, что Павла в спальне нет, он успел уйти, и они не знали, что делать дальше. Вслед за всеми вошел генерал Беннигсен, накрахмаленный и важный, словно статуя командора из дон Жуана, он подошел к камину, прислонился к нему и в это время встретился глазами с императором, спрятавшимся за экран.
Беннигсен сказал: «Ле вуаля. Вот он».
Когда Марии Федоровне сообщили о том, что с императором случился апоплексический удар и ему очень дурно, она воскликнула: «Нет, он не умер, его убили!»
Так в России очередной железной необходимостью закончился восемнадцатый век. Империя прошла тяжелым шагом мимо случайного императора.
Сорок семь лет прожил на свете Павел Петрович Романов, у которого точно таким же способом когда-то убили родного папу.