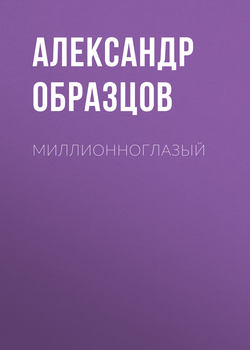Читать книгу Миллионноглазый (сборник) - Александр Образцов - Страница 22
Николай Павлович
ОглавлениеРожденный для счастья и славы, Николай Первый начал свой путь самодержца казнью пяти декабристов. Проклятие отцеубийства в роду Романовых причудливо воплотилось в этом восстании. В сущности молодые офицеры хотели убить своего отца, русского царя. Николай показал себя в сложнейшей ситуации твердым и последовательным человеком. За что и получил от образованных недорослей звание солдафона и тупицы.
Будущий царь Николай Первый появился на свет двадцать пятого июня тысяча семьсот девяносто шестого года, в Царскосельском дворце, без четверти четыре утра. Екатерина Вторая была поражена красотой внука. Она написала историку Гримму:
«Голос у мальчика бас. Кричит он удивительно. Длиною аршин без двух вершков. А руки немного менее моих. Если он будет так продолжать, как начал, братья его окажутся карликами перед этим колоссом. Он смотрит на всех во все глаза. Уже три дня кушает кашку, потому что беспрестанно хочет есть. Никогда восьмидневный ребенок не пользовался таким угощением. Это неслыханное дело. У нянек просто руки опускаются от удивления. В жизнь мою первый раз вижу такого рыцаря».
У «Рыцаря» не было никакой надежды стать царем. Впереди были два старших брата, Александр и Константин. Однако 13 июля 1819 года Александр Первый сообщил ему о предстоящем наследовании престола после отречения Константина Павловича и намекнул о своем скором желании оставить сей мир и власть. 22 августа 1826 года Николай был коронован в Кремле и царствовал 29 лет.
По меткому слову Екатерины ему действительно пришлось стать рыцарем. Когда в России вспыхнула холера, Николай призвал народ к спокойствию, и появился посреди бушующей и встревоженной толпы, которая могла разорвать его. В рыцарственном готическом духе он воссоздавал свой любимый Петергоф.
Николаю старались дать хорошее образование. Учителя его больше подходили для университетских курсов, нежели для школьных уроков. Он слушал лекции по римскому праву, статистике, русской и всеобщей истории, русскому и иностранным языкам, военной инженерии, и многому другому. Опыт обучения древним языкам был крайне неудачным. Много лет спустя по распоряжению Николая из библиотеки Эрмитажа в Публичную библиотеку были переданы все книги на латыни. «Терпеть не могу вокруг себя этой тоски!» – сказал император. Надо сказать, что выражался Николай всегда очень метко и афористично.
В юности Николай интересовался историей, знал толк в математике и артиллерии, увлекался разными постройками и имел пристрастие к рисованию. Этот талант остался у него на всю жизнь. Его учителем был профессор исторической живописи академик Василий Кузьмич Шебуев.
В одном из писем 1810 года Николай писал: «Здравствуй милый мой Вася. Сожалею, что Нева препятствует мне тебя видеть!» Имелся в виду ледоход на Неве. Николай всю жизнь не забывал о своем учителе, помогал ему с заказами. И выделил пожизненный пенсион в тысячу рублей.
В двадцатые годы Николая учили гравировке вернувшиеся из – за границы Орест Кипренский и Николай Уткин.
Дочь вице-президента Академии художеств графа Ф.П.Толстого, Мария Каменская вспоминала: «Однажды император сказал отцу: „Послушай, Федор Петрович, воля твоя, а колено у твоего славянского воина повернуто неправильно!“ Государь стал перед зеркалом в позу воина, смотря в зеркало, передвинул ногу и стал прямо и твердо на всю ступню ноги. И быстро на листочке нарисовал ногу воина так, как он представлял ее. Граф обиделся и ушел домой, но потом быстро прибежал просить прощения. Царь был абсолютно прав.»
Николай Павлович любил свою Академию художеств и посещал академические выставки вместе с царицей. Такие посещения завершались чаще всего поощрениями художников и пополнением царской коллекции. При этом Николай вел себя довольно осторожно. И просил вице – президента академии: «Знаешь, кроме баталической живописи, я не доверяю моему толку в картинах. А мне надо купить что-нибудь на выставке. Так ты не отходи от меня и если какая- нибудь картина будет стоить того, что б ее купил, ты мне глазами покажи на нее, я куплю».
Когда в 1845 году в Риме Николай посетил мастерскую А.А. Иванова, на него произвела сильнейшее впечатление картина «Явление Христа народу». «Оканчивай. Картина будет славная!» – сказал он. Царь приказал выдать художнику 1500 рублей с тем, чтобы он через год закончил картину. Иванов пришел в нервическое расстройство и постарался передать через наследника, что при всем желании этого сделать не сможет.
Николай любил Брюллова и ценил его талант. Однажды во время прогулки он зашел навестить художника, но тот работал. Приказав не докладывать, и сказав, что он зайдет позже, император удалился.
Уже в начале царствования была завершена работа над Портретной галереей Двенадцатого года и был разработан проект по установке памятников на местах сражений Отечественной войны 1812 года.
Николай никогда не мыслил себя писателем. Но вы послушайте, как он рассказывает о своем отце, Павле Петровиче! И Павел был не таков, каким его нарисовали, и сам Николай. Очень грустно видеть, как достойные превращены в подлых и наоборот.
«Мы спускались регулярно к отцу, это происходило в его собственной опочивальне. Он тогда бывал в белом шлафроке и сидел в простенке между окнами. Старый слуга Китаев, в форме камер-гусара, завивал ему букли. Нас впускали в комнату с нашими англичанками, и отец с удовольствием любовался, когда мы играли на ковре, покрывавшем пол этой комнаты».
«Отец нежно любил нас. Однажды, когда мы приехали к нему в Павловск, я увидел его идущим со знаменем у пояса, как тогда его носили. И он мне тотчас подарил знамя. В другой раз граф Растопчин неожиданно подарил мне от имени отца маленькую золоченую колясочку с парою шотландских вороных лошадок и жокеем. В другой раз отец во время гатчинского парада, поставил меня к себе на ногу. Однажды я был испуган шумом пикета Конной гвардии, стоявшего в прихожей моей матери, в зимнем дворце… Отец мой, видя это, и не желая, чтобы я боялся военного человека, заставил меня перецеловать весь караул. Вообще, отец сам часто приходил нас проведывать и я очень хорошо помню, что он всегда с нами был чрезвычайно весел».
Некогда было распространено представление о Николае Первом как о коронованном барабанщике, вызывавшем министров в свой кабинет ударами в барабан. Это неверно. Николай Павлович знал толк в музыке. Правда, музыкальные пристрастия Николая были довольно оригинальными и сформировались в основном еще в детстве. Классической музыке долгое время Николай и Михаил упрямо предпочитали барабанный бой.
Может быть, преподаватель истории Ахвердов рассказал ему о том, что их царственный прапрадед Петр Алексеевич изучал барабанную науку с не меньшим рвением, нежели мастерство корабельного плотника? Вообще, интерес Николая к петровской эпохе возрастал из года в год..
Парадоксально, что в Петре он словно не видел стремления к западничеству, с которым сам боролся всю жизнь, а хотел видеть и видел гений духа, и страстную любовь к России. Когда царь жил в любимом им коттедже Александрия, в Петергофе, он посещал несмотря ни на какую погоду пешком в девять утра Большой Петергофский Дворец и заходил непременно в Монплезир, и, войдя в спальню Петра, с благоговением и крестным знамением прикладывался к царскому колпаку, находящемуся на царской постели. Если верить одному из свидетельств, то Николай был не прочь получить в подарок от нидерландского короля домик Петра Первого в Саардаме.
Пушкин же просил у царя возможности быть в этом домике дворником.
Вместе с петровской эпохой Николай жадно интересовался и русской древностью. По собственному желанию Царь решил восстановить Теремной дворец бояр Романовых 1635- 1636 годов и просил возглавить работы художника Солнцева. Николай настолько был доволен реставрацией, что молча прошел по всем комнатам терема и сказал Солнцеву: «Польза, честь и слава, ныне и присно и во веки веков, аминь. Пойдем, я представлю тебя императрице. Отдохни от трудов, приезжай в Петербург».
Митрополит Московский Филарет как-то сказал императору, что Петр Великий пел на клиросе как смиренный человек. И вот, в память о музыкальных увлечениях Петра, он решил создать нечто вроде семейного хора. Эта была общая радость, которая объединяла семью. На спевки собирались как бы тайно, с какой-то нарастающей радостью ждали друг друга.
Великая княгиня Ольга Николаевна, дочь Николая Первого, в мемуарах «Сон юности» вспоминала:
«По воскресеньям, перед обедней, все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения к Празднику. У Папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза во время пения встречались с нашими. И Саша, будущий император Александр Второй, потом, в память этого, делал то же, если присутствовал кто-либо из нас, певцов нашего доброго времени – ловил наш взгляд во время спевок, которые продолжались и после смерти Папа».
Николаю суждено было перенести очень много испытаний – убийство отца, восстание декабристов, поражение в Крымской войне. У Александры Федоровны, супруги Николая, после 14 декабря 1825 случился нервный тик. У нее, изящной молодой женщины, в минуты волнения начинала трястись голова.
Они познакомились в Берлине в год окончания войны с Наполеоном… Дочь Фридриха Великого, она была живым портретом своей матери, покойной королевы Луизы Прусской. Она предстала перед Николаем в первый раз в изящном белом платье, украшенном ее любимыми цветами, белыми розами. Одним из романтических имен Александры в России и стало имя «Белая роза».
Брак Николая и Александры был одним из самых счастливых среди брачных союзов русских царей. Жизнь молодой четы проходила в Аничковом дворце, в «аничковом» рае, как называл свой супружеский дворец Николай. Чтобы обучить юную императрицу русскому языку, был приглашен Василий Андреевич Жуковский. Он был замечательным поэтом, но совсем не строгим учителем. Уроки часто отменялись по причине дворцовых балов. Александра Федоровна трогательно заявляла своему Жуковскому, что она не выучила басни, потому что ей было некогда. До конца жизни Александра так и не могла поизносить длинных фраз на русском языке, и до конца жизни поэт был трогательно влюблен в Александру.
Анна Федоровна Тютчева писала: «Это была нежная детская душа. Дочь прусского короля, она была воспитана в то время, когда вся немецкая молодежь зачитывалась поэзией Шиллера и его последователей. Император питал к своей жене, этому хрупкому и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствовал».
У нее было предназначение, быть, прежде всего, женой и матерью. Когда некоторые дамы жаловались митрополиту Филарету, что императрица много танцует и гоняется за развлечениями, вместо того, чтобы думать о спасении души, Филарет сказал на это: «Возможно, но я думаю, что она танцуя попадет в рай, в то время как мы еще будем стучаться в двери».
Император, случалось, увлекался другими женщинами, особенно после того, как врачи запретили Александре иметь детей. Но вообще был хорошим семьянином. «Мы живем ладно с моею старухой… Люблю, люблю мою старуху и детей» – сказал он как-то. «Старухой» он называл тридцатитрехлетнюю Александру Федоровну. «Старику» было тридцать пять.
Чтобы увлечь жену красотой русской песни, Николай Павлович на вечерах в Аничковом дворце исполнял под фортепьянный аккомпанемент народные песни. Он обладал хорошим баритоном, пел сердечно, в меру страстно. Среди его любимых была «Как на матушке, на Неве реке молодой матрос корабли снастил», которую по преданию придумал Петр Великий.
А еще Николай и Александра самозабвенно любили театр.
Поселившись в Аничковом Дворце, Николай прежде всего позаботился об устройстве театральной залы, где сам с удовольствием разыгрывал пьесы. При Николае возрождается жизнь в Эрмитажном театре, для выездных представлений строится театр на Каменном Острове. Однажды, в домашнем спектакле в Гатчине, Николай неожиданно для всех вышел на сцену в мундире квартального надзирателя. Но царь играл и Мольера, и Гете, и делал это гротескно, доводя роль иногда до анекдота, до абсурда.
В 1832 Карл Росси строит царю Александринский театр, который был назван в честь императрицы. Он был похож на дворец. В Александринке были обширные апартаменты Николая, которые он часто посещал. К числу его любимых актеров принадлежал Каратыгин. Император сказал ему как-то: «Вот ты, Каратыгин, умеешь представляться кем угодно. А меня ты, пожалуй, и не сыграл бы»
«А позвольте, ваше величество, я даже сию же минуту перед Вами изображу вас», – сказал Каратыгин.
«Попробуй», – ответил царь. Каратыгин немедленно встал в позу и, обратившись к находившемуся здесь директору театров Гедеонову, сказал голосом императора: «Послушай, Гедеонов, распорядись завтра в 12 часов выдать Каратыгину двойной оклад жалованья за этот месяц». Царь рассмеялся и сказал «Недурно!» На другой день в 12 часов Каратыгин получил, конечно же, двойной оклад.
Николай был отзывчив к художественной литературе. Гоголь вспоминал: «Был вечер в Аничковом дворце, все в залах уже собралося…но государь долго не выходил. Отдалившись от всех, он развернул „Илиаду“ и увлекся ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка, и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на своем лице следы иных впечатлений».
Среди зарубежных писателей он с удовольствием читал Вальтера Скотта, как и все остальные в то время. Не случайно пушкинского «Годунова» без злого умысла предлагал автору переделать в исторический роман в духе Скотта. Но в тоже время Гоголь уверял, что без высокого покровительства императора «Ревизор» не был бы никогда напечатан и поставлен. Император был на премьере «Ревизора» и заметил «досталось всем, а мне больше всех», а после спектакля переслал писателю бриллиантовый перстень. Но когда в 1845 году друзья Гоголя хлопотали писателю пенсию, царь заметил, «у него есть много таланта драматического. Но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие»! Какие это были обороты, царь не уточнил.
Отношения Пушкина и царя неоднократно менялись. Так, на литературном обеде в ноябре 1827 года поэт сказал: «Меня должно прозвать или Николаевым или Николаевичем, ибо без него бы я не жил. Он дал мне жизнь, и, что гораздо более, свободу, виват!» Но потом в письме к Чаадаеву он замечал: «хотя я лично сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя». Царь был старше Пушкина на три года, поэтому довольно быстро остыл к нему. Ему не понравилось, что Пушкин нарушил слово дворянина, не сдержал данное им обещание не драться на дуэли с Дантесом ни под каким предлогом. Николай писал к генералу Паскевичу 16 февраля 1837 года: «Одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны. За дерзкую и глупую картель, им же писанную. Но, слава Богу, умер христианином».
Николай Павлович любил своего брата Александра и, конечно, ему была известна тайна смерти или ухода царя. Памяти брата он создал Александрийскую колонну. Работы начались в 1829 году. Лицо ангела, поставляемого на колонну, должно было иметь портретно сходство с Александром. Так решил Николай. Памятник подчеркивал, что Александр действительно скончался, и должен был заглушить слухи о событиях в Таганроге. В то же время, подняв образ Александра выше Зимнего Дворца, Николай чуть ли не молитвенно обратился к заступничеству брата как хранителю России. Авторитет Александра был непререкаем для Николая и потому, что брат был на двадцать лет его старше, и воспринимался отцом.
Николай давно задумывался о том, что России нужен свой гимн. Эту важнейшую задачу за честь почитали бы исполнить ведущие композиторы России. Но выбор царя пал на молодого тогда Алексея Федоровича Львова, сына директора придворной капеллы. 6 декабря 1833 года в Москве в Большом театре после спектакля царь неожиданно приказал спеть и сыграть гимн Львова. Театр был полон. Публика поднялась с мест и слушала гимн стоя. Гимн повторяли два раза. Почти через две недели торжественное исполнение гимна повторилось. Это было 25 декабря 1833 года, в день изгнания французов из России. Гимн «Боже, Царя храни» был проигран во всех залах Зимнего, где были собраны войска! Зимний Дворец превратился в хоровую ассамблею! Казалось, царь хотел, чтобы каждый уголок Зимнего был проникнут мелодией Львова.
По велению царя в Петербурге была устроена опера, которая могла бы соперничать с Парижской. В зале Дворянского собрания стали выступать знаменитости: Полина Виардо, Джудитта Паста, Джованни Рубини, Антонио Тамбурини.
Последние десять лет жизни Николая были для него крайне тяжелыми. В сущности именно Николай спас Европу от революций и анархии 1830 и 1848 годов, введя туда свои войска. И как будто в насмешку над выдающимся вкладом России в дело европейского мира Франция и Англия затеяли практически без всякого повода Крымскую войну. Европе никогда не нравилась сильная и развивающаяся Россия.
В 1854 году Николай понимал, что проиграна не только Крымская война, но и вся его сильная, независимая политика. К этому времени он стал жить затворником в Гатчине, а не в любимом Петергофе, где один вид моря напоминал ему о поражении. «Сколько все это мне на старости прискорбно!» – восклицал он, слушая военные сводки.
Николай умер 18 февраля 1855 года от пневмонии. В ночь перед смертью он продиктовал депешу в Москву, в которой сообщал, что прощается с Первопрестольной. Когда наступил паралич легких и дыхание стало стесненным, он спросил доктора Мандта: «Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка? Это очень тяжело, я не думал, что так трудно умирать».
По городу разнеслись слухи, что Николай умер от яда, который дал ему якобы по его просьбе доктор Мандт. Бессмертная пошлость людская победила этого прямого, сильного и честного человека. Но если можно назвать кого-то из Романовых идеальным царем, то ближе всех к этому идеалу стоит Николай Павлович.