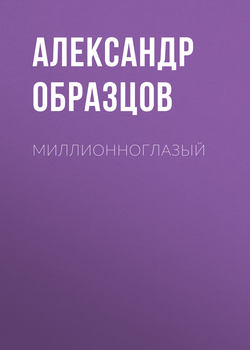Читать книгу Миллионноглазый (сборник) - Александр Образцов - Страница 21
Александр Первый
ОглавлениеАлександр Первый родился двенадцатого декабря 1777 года через два месяца после страшного наводнения в Петербурге.
Екатерина Вторая видела в нем своего наследника. Александр был отобран у родителей и помещен в одной из комнат на половине императрицы. Она сама начала воспитание внука с книгами Руссо и Локка в руках.
Внук оказался смышленый. Бабка была очень рада. Казалось, что всю свою материнскую любовь, не доставшуюся Павлу, она перенесла на внука. Она называла его уважительно «господин Александр».
Он слишком рано начал думать о смысле жизни. Уже в три с половиной года мальчик требует ответа на кардинальный вопрос: «Отчего люди на свете и зачем он сам явился на свет?». Чтение становится его страстью. Вскочив поутру с постели, он говорит своим няням: «Я теперь хочу тотчас почитать, а то после мне больше захочется гулять. Если я теперь не почитаю, то день у меня пропадет». Десятилетним ребенком он читал уже Плутарха, «Илиаду», восторгался римским сенатом, негодовал, когда видел собрание римских граждан у ног Цезаря. Как это часто бывает, в деспотической семье вырастал демократ.
Обычно осторожная и трезвая Екатерина сама подобрала внуку штат наставников. Законоучителем и духовником Александра и его брата Константина был назначен протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, страстный англоман. Он брил бороду и носил светский костюм. Александр вспоминал в дальнейшем: «Я был, как и все мои современники, не набожен».
Главным человеком в жизни Александра долгое время был швейцарец Лагарп, приверженец идей просвещения и республиканец по взглядам. Он мало знал Россию и ее историю, но при дворе стареющейся Екатерины либеральные взгляды Лагарпа не встречали никакого противодействия. Итак, Александру предстояло стать царем-республиканцем. Не менее парадоксальны и двусмысленны были отношения с отцом и бабушкой. Не случайно в дальнейшем Наполеон называл Александра лукавым византийцем. Это приучило Александра жить на два ума, держать две парадные физиономии. В результате он мечтал, дав свободу и конституцию своей Родине, бежать за границу в качестве частного человека и найти счастье в обществе друзей и природы в стиле Руссо. «И солдату положено увольнение» – любил говорить Александр, уже став царем.
Непонятным образом об истинных настроениях внука так и не узнала ничего Екатерина. А чтобы ускорить взросление Александра, решила его женить. И здесь промахнулась. Видимо, к концу своей бурной жизни она потеряла свою удивительную интуицию.
28 сентября 1793 года состоялось бракосочетание Александра с прусской принцессой Луизой Марией Августой. Александру было 16 лет, Елизавете Алексеевне (таким стало имя невесты после перехода в православие) – 14.
Но уже очень скоро Александр полностью охладел к молодой жене. И она замкнулась в своем внутреннем мире и мало принимала участия в жизни двора. Натянутыми были ее отношения и со свекровью, и с сестрой мужа Екатериной Павловной. Елизавету Алексеевну полушутя называли «мадам молчание».
Однако демократические настроения Александра были не чужды и его жене. Равнодушие к светской жизни сочеталось в ней с большой любовью к искусству. Отличаясь необычайной скромностью, она много читала, имела особенную склонность к изучению языков. Она была одарена восхитительным голосом. Екатерина Вторая говорила о Елизавете: «Мадам Елизавета сирена. Ее голос проникает прямо мне в сердце, которое она полностью завоевала». Елизавета имела и особый талант рассказчицы: император Александр не скрывал того, что, не имея времени много читать, он обязан императрице сведениями обо всем, что появлялось любопытного. Она быстро изучила русский язык и легко совершенствовалась в нем.
«Вы спрашиваете, нахожу ли я русский язык трудным? Да, хотя речь довольно простую уже начинаю понимать», – писала она матери вскоре по приезде в Россию. «Урок русского языка поистине сентиментальный урок, поскольку наша литература пребывает пока в периоде детства. Но когда проникаешь в богатство языка, видишь, что можно из этого сделать и тогда получаешь удовольствие. Перед тобой возникают истинные сокровища. К тому же звучание русской речи доставляет моему уху такое же наслаждение, как прекрасная музыка».
Она знакомится с поэтами, скульпторами, музыкантами. Елизавета берет уроки игры на арфе. Она занимается рисованием в Эрмитаже.
Александр, в отличие от Елизаветы, театр не очень жалует, особенно трагедии. Ему достаточно семейных неурядиц, он устает от сильных эмоций. Он не может и вполне наслаждаться музыкой. На военной службе у отца в Гатчине у него развилась глухота левого уха «от сильного гула пушек». Но среди его музыкальных пристрастий всегда оставалась военная музыка. Здесь его уши его не подводили.
А Елизавету пленяет красота русских дворцов и парков. Она чувствует дух места, ауру пространства. Из всех дворцов предпочитает Царское Село. Здесь ее никто не стесняет. Здесь чудесный сад.
Екатерина отводит молодоженам милые апартаменты в Александровском дворце Царского Села. Любимым дворцом Елизаветы будет и Каменный дворец у Невы. В Зимнем она тоскует, ей кажется, что она попала в клетку, из которой ей не выбраться. В то же время самым красивым местом в России она называет Ораниенбаум. «С высоты бельведера, расположенного недалеко от дома, видны и прекрасно различимы все корабли флота».
В двадцать лет Елизавета родила дочь Марию. Правда, никаких торжеств по этому поводу при Дворе не было. Все отлично знали, что отцом девочки являлся князь Адам Чарторыйский, молодой польский аристократ. Павел был не без чувства юмора: он отправил Чарторыйского посланником в Турин, – туда же отправили посланником того, с кем когда-то согрешила его первая жена Наталья Алексеевна…
Она пробует найти утешение в христианской литературе. Среди ее книг роман Шатобриана «Мученики». Другое ее занятие – письма. Каждый день она будет писать матери письма. Письма горькие и тревожные. Всего их окажется около 15 тысяч. Среди писем есть и крамольные. Например, о Павле Первом, о возможном грядущем перевороте. Свекра Елизавета боится и ненавидит. «Это тиран, который душит Россию». Мать в ответ советует ей не слишком развивать воображение и не слишком увлекаться абстрактным чтением.
Однако в день убийства Павла Петровича Елизавета говорит свекрови Марии Федоровне: «Россия устала от власти старой толстой немки. Дайте ей возможность насладиться молодым русским царем». В этой фразе есть торжество и мстительность, недостойные молодой императрицы.
Александр Павлович испытывает другие чувства, став царем таким страшным образом. Он потрясен смертью отца, винит в этом себя, и чувствует себя ужасно. Он знал о заговоре, но просил заговорщиков совершить его бескровно. Никто из них, конечно же, в это не верил. Как и Александр. Но он не предполагал, что ему будет так тяжело. Никакие доводы о пользе России, о божественной природе власти не утешали. Для Романовых продолжался их фамильный шекспировский сюжет. Может быть, и отсутствие собственных детей в браке с Елизаветой Александр запланировал, прерывая череду отцеубийств. Отныне он постоянно куда-то спешит, движется, скачет, чтобы умчаться от тоски.
В течение месяца после смерти Павла Александр вернул на службу всех ранее уволенных отцом, снял запрещение на ввоз различных товаров и продуктов в Россию, в том числе книг и музыкальных нот, объявил амнистию беглецам, восстановил дворянские выборы. Но и – удалил из Петербурга лиц, причастных к преступлению, предоставил матери все права вдовствующей императрицы, окружил ее сыновним почтением.
Казалось, для России наступает золотой век. Около государя образовался тесный кружок лиц: В.П. Кочубей, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский. План их состоял в полной реорганизации управления России.
Александр покровительствует искусствам. Эрмитаж постепенно превращается в самостоятельный музей и служить интересам общества. Издаются два положения – о деятельности Эрмитажа и оружейной палаты. В 1801 году орденами награждаются профессора академии художеств. «Я желал бы сим показать особенное внимание мое к изящным художествам, и ободрить распространение их в России». Все наиболее крупные приобретения целых собраний живописи совершаются лично Александром. Он явно тяготеет к картинам французских художников.
Вступление русских войск в Париж в 1815 году ознаменовано покупкой лично Александром 38 картин из состава Мальмезонской галереи, принадлежащей императрице Жозефине. Наиболее ценными приобретениями были «Снятие с креста» Рембрандта, «Ферма», «Цепная собака» и «Наказание охотников» Поттера и другие. Александром было куплена и коллекция испанской живописи, такие картины, как «Портрет Оливареса» Веласкеса, «Точильщик» Пуги, «Юность Мадонны» Сурбара. В 1815 году Эрмитаж получает тринадцать альбомов французских художников Персье и Фонтена, исполненных по заказу императора, изображающих виды замечательных зданий Парижа.
Александр надеется создать в России Всемирный город красоты и изящества. И это должен быть Петербург. Он обустраивается замечательными зданиями. Томон перестраивает большой театр, строит биржу, Захаров приступает к постройке нового здания Адмиралтейства, Кваренги воздвигает ряд построек.
В начале царствования супруга Елизавета еще более остро ощущает свое одиночество. Не с ней открывает новый царь балы, хотя и был сочинен полонез «Александр, Елизавета! Восхищаете вы нас». Этот полонез в романе «Война и мир» открывает первый бал Наташи Ростовой. А Александр живет семейной жизнью с Нарышкиной. У них свои дети, свои радости. Богатые плачут иногда значительно более горькими слезами, потому что у них уже нет иллюзий…
В 1811 году приказом Александра Первого открывается Царскосельский императорский Лицей. На торжественном акте по случаю открытия Лицея присутствует царская чета. После того, как закончилась официальная часть церемонии, императорское семейство отправилось осматривать новое заведение.
Иван Пущин вспоминал: «Царь беседовал с министром. Императрица Мария Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на него плечом, чтоб он не приподнимался, и спросила его: „Карош суп?“ Он медвежонком отвечал: „Oui, monsieur!“ Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, – только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостию ко всем – она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово. Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:
„На лире скромной, благородной…“»
Идея новой школы принадлежала царю. Здесь широко преподавались не только гуманитарные, но и естественные предметы. Все теоретические курсы заканчивались прикладными науками. Лицею была подарена юношеская библиотека царя. Да и вообще жизнь лицеистов проходила близ царского ока. В праздничные церковные дни им разрешалось посещать церковь в Екатерининском дворце, где молилась царская семья. В 1816 году императору Александру I пришла в голову мысль посылать лицеистов дежурить при императрице в качестве пажей. Он считал, что это придаст им, по выражению Пущина, больше светской непринужденности и ловкости. Пушкин мог тогда видеть императрицу постоянно. Он преклонялся перед ней, по некоторым версиям она была его музой всю жизнь.
Но супружество Александра и Елизаветы неожиданно окрепло. Война двенадцатого года сблизила их. В своих предсказаниях царица проявляет талант стратега. Родным в Германию она пишет: «Чем успешнее Наполеон станет продвигаться вперед, тем меньше ему придется рассчитывать на примирение… Каждый сделанный им шаг по безбрежной России приближает его к пропасти. Посмотрим, как ему удастся перенести здешнюю зиму». По ее инициативе возникает патриотическое общество, создается Сиротское училище и при нем Дом трудолюбия для обучения и содержания на казенный счет дочерей офицеров, павших на войне. Впоследствии это учебное заведение, постоянное опекаемое императрицей, стало называться Елизаветинским институтом. Все это укрепило ее популярность в русском обществе.
После победы над Наполеоном царская чета увлекается мистическими учениями. В России при поддержке императора выходит огромное количество книг такого направления. Александр Павлович убежден, что победа над гением Наполеона свершилась как Промысел Божий.
Он собирается создать храм Христу Спасителю, возблагодарив Бога за проявленную по отношению к России милость. Закладка храма произошла летом 1817 года в Москве на Воробьевых горах. Но архитектура его нарушала православный канон. Он не был посвящен ни одной конфессии. Храм должен был соответствовать той мощи и силе, которую проявил Христос при спасении всего человечества. Александр был доволен проектом архитектора Витберга, кстати, масона высокого посвящения, и заявил, что «архитектор заставил говорить камни». Витберг создал как бы три храма, возвышающиеся друг над другом: храм тела, храм души и храм духа: Воплощение, Преображение и Воскрешение Христа.
Созданию храма сопутствовали большие трудности. Нужно было преобразовать склон Воробьевых гор в ровное пространство для последующих работ.
Но руководство строительством давалось Витбергу с трудом. Не было точных соображений об устройстве фундамента, были неудачи с доставкой камня. В результате храм в этом проекте так и не был построен.
Затем умер Аракчеев, которому было поручено заниматься храмом.
В дальнейшем царь и Елизавета Алексеевна отошли от мистицизма и вернулись в лоно официального православия. Видимо, на Александра решающее влияние в его духовной жизни оказала смерть его горячо любимой дочери шестнадцатилетней Софьи, рожденной от Марии Антоновны Нарышкиной.
Впервые в истории русского самодержавия писатель становится другом царской семьи. Это был Николай Карамзин. В 1811 Карамзин подает Александру I «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», в которой резко критикует царя за либеральные новации. «Требуем больше мудрости охранительной, нежели творческой», – писал Карамзин. Он признавал, что крепостное право – «зло», но освобождать крестьян теперь – «не время», ибо крестьяне еще «не доросли» до свободы. «Для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу.»
Через сто лет был дан основательный ответ писателю на тему того, что безопаснее для государства – дать свободу или не давать.
Тем не менее Карамзин в духе наивного европейского прагматизма начала девятнадцатого века продолжает снабжать Александра Павловича своими изысканиями и фальсификациями на темы русской истории. Он читает императору и императрице вслух главы из «Истории Государства Российского». Благо, что живет недалеко от Царского дворца, в Китайской деревне.
Императрица все больше интересуется историей России, также начиная не очень далеко – с Петра Первого, и ведет архивную работу. Ей помогает сам Карамзин. Доверие к нему Елизаветы настолько возросло, что она читает ему все свои дневники за время пребывания в России. Бывали случаи, когда она не решалась читать вслух некоторые отрывки, а просто передавала тетрадь в руки Николаю Михайловичу, и он молча прочитывал отмеченные строки. Эта трогательные и глубоко фальшивые отношения были чрезвычайно характерны для эпохи сентиментальных Салтычих. В письме к поэту Дмитриеву от 30 сентября 1821 года Карамзин писал, что счастлив общаться с этой «редкой женщиной» и что посвятил ей, быть может, последние в своей жизни стихи:
Здесь все мечта и сон, не будет пробужденья!
Тебя узнал я здесь, в прелестном сновиденье:
Узнаю наяву!
Достоевского здесь не хватает. Или Салтыкова-Щедрина.
Свой дневник императрица завещала Карамзину. Но писатель тут же скончался через две недели после царицы. Потом дневники Елизаветы Алексеевны оказались в руках Николая I, который нашел необходимым предать их забвению и лично сжег, продемонстрировав незаурядный художественный и нравственный вкус.
2 сентября 1825 года Александр и Елизавета отправляются на юг, в Таганрог, для лечения императрицы. Что странно и по маршруту и по дате, близкой к декабрю.
В ноябре того же года царь неожиданно заболел и быстро угас на руках жены.
По другой версии царь сложил с себя бремя власти и продолжил земной путь под именем старца Федора Кузьмича. Если это так, то это лишний раз подтверждает широту и незаурядность некоторых представителей семейства Романовых. Может быть, Александр Павлович был противоречив и недостаточно глубок, как мыслитель, но он не был тупым потребителем, как большинство людей его круга. И не эпиграмм он заслуживал, а трагедий, которых – увы – не терпел.
По завещанию Александра Павловича, Елизавете Алексеевне достались два ее любимых дворца – Ораниенбаумский и Каменноостровский. Она уступила их великому князю Михаилу Павловичу и его супруге. Она отказалась и от пенсии в миллион рублей в год, которую ей назначил новый император.
Для Елизаветы начался последний год ее жизни. Весь этот год она медленно продвигалась к Петербургу в погребальном кортеже своего супруга, надломленная физически и душевно. Известие о восстании декабристов, о восшествии на престол Николая, – всё воспринималось ею как бы сквозь дымку потусторонности. Не доезжая до Москвы, Елизавета тихо угасала в Белеве, вдали от шума столиц.
Умерла императрица в ночь с 3 на 4 мая 1826 года, так ничего и не разобрав в запутанном романе своей невеселой и одинокой жизни.