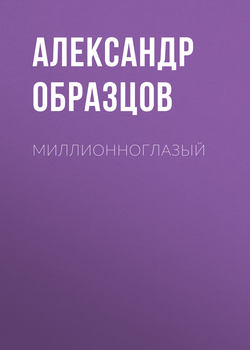Читать книгу Миллионноглазый (сборник) - Александр Образцов - Страница 23
Александр Второй
ОглавлениеБудущий Император Александр родился в неделю светлой седмицы, в среду 17 апреля 1818 года в архиерейском доме при Чудовом монастыре в Москве. На Руси считается, что такие люди должны быть счастливыми, ведь они появились на свет в пасхальные торжества. Но Александру Николаевичу суждена была высокая смыслом, но трагическая жизнь. Отменивший крепостное право, Александр Второй пережил восемь покушений, последнее из которых завершилось гибелью императора. Однако если жизнь отдельного человека рассматривать в ряду его предков и потомков, то ничто в жизни не происходит случайно. И «Утро стрелецкой казни» уже не отстоит от Екатерининского канала на 650 верст.
Крестным отцом будущего царя был Александр Первый. Первые годы жизни Саши прошли в Аничковом дворце и в Павловске под Петербургом, у августейшей его бабушки императрицы Марии Федоровны. Когда мальчику пошел седьмой год, началось его военное воспитание под руководством боевого офицера – капитана Мердера, который был лично известен императору Николаю Павловичу своими высокими душевными качествами. Когда начались декабрьские события 1825 года, отец-император вынес Александра во двор Зимнего дворца, занятого гвардейским саперным батальоном, и передал на руки заслуженным старым солдатам. Гвардейские саперы восторженно приветствовали наследника престола.
В 1826 году решено было приступить к образованию восьмилетнего Александра по особому учебному плану, выработанному В.А. Жуковским.Его пригласили руководить учением наследника. Жуковский смотрел на свое дело как на высокую миссию… Он стремился внушить Александру возвышенный взгляд на обязанности человека и государя. Жуковский прямо высказывал свои опасения, что наследник, с детства приученный к плац-парадам, может привыкнуть «видеть в народе только полк, в отечестве – казарму». И все таки, наперекор опасениям воспитателя, будущий царь рано полюбил военные учения и уже одиннадцатилетним мальчиком вызывал чувства умиления и восторга при берлинском дворе своего деда именно своими плац-парадными талантами.
Николай сквозь пальцы смотрел на либеральные взгляды Жуковского. Однажды он спросил сына в учебной комнате, как бы тот поступил с декабристами. Александр ответил, что простил бы их. Николай молча вышел из класса, но явно был недоволен сыном.
Александр благодаря Жуковскому и своим способностям делал явные успехи в обучении. Он лучше, чем остальные Романовы, письменно и устно изъяснялся на родном языке, чувствовал его обертона и изгибы, блестяще знал четыре языка: французский, немецкий, английский и польский, и мог бы стать профессиональным лингвистом. Куда бы ни приезжал впоследствии будущий царь, во всех странах дивились его отличному произношению. Сентиментальный Жуковский поощрял в наследнике чувствительность, необходимую разве что в частной жизни. Жуковский много читал ему Гомера, Вальтера Скотта, сказки из «Тысячи и одной ночи», развивая в нем воображение. Однажды уехала куда-то Александра Федоровна. Наследник нарвал цветов гелиотропа и просил отправить их маме вместе с письмом, а дневник свой в тот день начал так: «Милая моя мама и Мэри уехали в Одессу. Я много плакал». Он часто жаловался наставникам, что жалеет о том, что «родился великим князем». Императрица Александра Федоровна иногда задумывалась о том, какая печальная участь уготована ее первенцу. В 1826 году она пишет Жуковскому, находившемуся за границей: «Саша горько плакал перед троном, на котором он когда-нибудь будет коронован». В свете будущей жизни императора надо сказать, что интуиция его не обманывала.
Когда Александру было семь лет, Николай подарил своим детям в Царском Селе остров на одном из прудов. Саше и его друзьям соорудили на нем домик из четырех комнат с салоном. Небольшое возвышение на острове назвали мысом «доброго Саши».
В десять лет он получил задание от учителей нарисовать эскиз герба для своего флага. Он изобразил на листе ватмана скалу, омываемую водой, муравья и якорь, а вокруг рисунка шел девиз: «постоянство, деятельность, надежда.» Таким образом Александр зашифровал свое понимании власти государя. Царь должен трудиться как муравей, обеспечивая подданным спокойствие и быть нерушимым и непреступным как скала. Но особенной любви к рисованию у Александра не было.
По желанию Жуковского, воспитание Александра Николаевича в 1837 году завершилось путешествием. Наследник исколесил всю Россию. Он был в Ялуторовске и Кургане, затем поехал в Сибирь. Там он познакомился с некоторыми декабристами. Он ходатайствовал перед отцом о смягчении их участи, и Николай Павлович сократил сроки их изгнания. В 1838 году Александр Николаевич отправился в путешествие по Европе. Он был в Пруссии, Италии, в Милане, посвятил несколько дней осмотру миланского собора. Австрийский профессор искусствовед всюду сопровождал его там. Александр посетил известный монастырь в окрестностях Милана «Санта Мария дела грация», где в монастырской трапезной созерцал «Тайную вечерю» Леонардо. В Венеции пробыл почти месяц, его интересовало производство художественного стекла, а также знаменитые венецианские кружева и вышивки. Часто с Жуковским или в одиночку он нанимал гондолу и катался по каналам, осматривая старинные дворцы и церкви. Переезжал из города в город, наслаждался итальянским небом, силуэтами линий и нежными далями Тосканы…
И все таки из Рима он писал одному из своих адъютантов: «Хотя Италия очень хороша, но дома все-таки лучше. Завтра отправляемся в Неаполь, а оттуда далее по назначенному маршруту, так, чтобы к 20 июня быть дома. О, счастливый день! Когда бы он скорее пришел!» Маркиз Кюстин, доставивший немало горьких минут Николаю Павловичу своей злой книгой о России, был представлен наследнику в Эмсе. «Выражение его глаз, – писал Кюстин , – доброта. Это в полном смысле слова – государь (un prince). Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека, превосходно воспитанного. Все движения его полны грации. Он – прекраснейший образец государя, из всех, когда-либо мною виденных»
Иные чары влияли на Романовых в Дармштадте и других немецких княжествах. Александр, в частности, познакомился здесь с младшей дочерью герцога Людвига II. Эта четырнадцатилетняя Мария пленила сердце цесаревича. В ней было нечто сентиментальное и романтическое. Вся ее простодушная сущность отражалась в кротких глазах. Они встретились в театре. Давали Лючию де Ламермур, актриса пела о несчастной любви. Но Александр и Вильгельмина думали только о любви счастливой. Однако родители цесаревича были в недоумении. Незадолго до помолвки князь А. Ф. Орлов, на правах царского наперсника, доложил Николаю Павловичу, что гессен-дармштадтская принцесса может быть незаконной дочерью камергера де Гранси. Но она была официально признана правителем Гессена, королем Людвигом Вторым, и никаких прямых препятствий к помолвке с русским цесаревичем не возникнуть не могло. Николай Павлович сказал «Пусть кто-нибудь в Европе попробует сказать, что у наследника русского престола невеста незаконнорожденная!» Таково было ощущение силы Российской империи в те баснословные времена!
Сам Александр уверял своих наставников, что «единственное его желание – найти достойную подругу, которая украсила бы его семейный очаг и доставила бы ему то, что считает он высшим на земле счастием, – счастие супруга и отца…» Но помолвка с малолетней принцессой была отложена до весны, и только 16 апреля 1841 года состоялся брак Александра Николаевича с гессен-дармштадтской принцессой Максимилианной-Вильгельминой-Августой-Софией-Марией. Теперь ее стали величать великой княгиней Марией Александровной.
Супружество их было долгое время счастливым. Мария Александровна очень хотела быть идеальной русской императрицей. Она всегда держала себя в руках. Она хорошо выучила русский язык на уроках фрейлины Анны Тютчевой, дочери русского поэта. Тютчева стала почти единственной наперсницей императрицей вне круга ее семьи. Вместе они вели философские беседы о России, Тютчева рассказывала Марии Александровне о незыблемости на Руси монархии, о том, что «она носит у нас религиозный и сверхъестественный характер, который действует на воображение». Может быть, эти рассуждения таким образом повлияли на молодую царицу, что мир христианской молитвы стал для нее самым родным и понятным. Надо сказать, что немецкие принцессы, попадая на российский императорский трон, все, за редчайшим исключением, вели себя в роли императриц безупречно. Любовь их к новой отчизне была так сильна, что возникает законное предположение о том, что сами принцессы – потомки тамошних славян и в них всего лишь пробуждался забытый голос крови. Тогда история Романовых приобретает подлинно эпический характер.
В воспоминаниях сестры Александра Второго, великой княгини Ольги Николаевны, есть замечательные строки о том, как проходила церемония перехода Мари в православную веру. Ольга Николаевна заметила, что первые слова «ВЕРУЮ» Мари произносила робко и тихо, но дальше. ее голос окреп и звучал увереннее. Иногда сама Тютчева признавалась, что из Марии Александровны получилась бы хорошая монахиня. «В своем окружении матери, жены, Государыни она казалась как бы чужой и не освоившейся. Она была нежно привязана к мужу и к детям и добросовестно исполняла обязанности, которые налагали на нее семья и ее высокий сан. Но в этом усилии чувствовалось отсутствие непосредственности в этих отношениях. Она искала и находила власяницу там, где характер более открытый нашел бы удовлетворение интимных стремлений и применение природных способностей. И все же ее кротость, доброжелательность и ровность настроения ее слегка насмешливый ум таили в себе тысячу чар».
При дворе было замечено, что, что популярность Александра Николаевича чрезвычайно возросла благодаря жене… Мари сопровождала его во время маневров в лагеря, на смотры и на приемы, и храбро со своей простой манерой говорила по-русски с генералами и офицерами частей. Потом, когда Саше внушили недоверие к такому влиянию и представили это как слабость с его стороны, Мари отступила на задний план совершенно добровольно.
Мария Александровна любила читать истории святых и жития, особенно житие святой Моники и письма святого Августина и окружала себя только теми людьми, от которых могла поучиться. Мария Александровна прекрасно была осведомлена в русской истории… Так, на открытии памятника тысячелетию Руси, на котором присутствовала царская семья, в Новгороде, в 1862 году, она поразила представителей дворянства знаниями русских древностей и святынь не только Новгорода, но и других российских городов.
Некоторое время общий интерес супругов состоял в чтении. Во дворце в Царском Селе Тургенев на вечерах читал «Дворянское гнездо». Императрица любила романы И.А. Гончарова и поэзию Ф.И. Тютчева, но особенно дружественные отношения складывались у царя и царицы с Алексеем Константиновичем Толстым. Толстой был другом детства императора. Их познакомил В.А. Жуковский. Алеша Толстой допускался в комнаты к юному цесаревичу и они весело играли, и даже боролись в рукопашную с Николаем Первым. Александр надеялся, что Толстой станет в дальнейшем его помощником, и предложил ему выбрать любой пост при дворе. Алексей остановился на должности царского егеря, заявив, что ему ненавистен мундир чиновника, и слишком дорого искусство. Это охладило отношение Александра к другу детства. И впоследствии он недовольно отзывался о литераторах.
Мария Александровна, наоборот, всю жизнь привечала Толстого и была первой слушательницей многих его стихотворений, старалась избавить их от цензуры. Когда стихотворения были особенно щекотливые и острые, Толстой читал их царице в темноте. «Изо всех моих слушателей в настоящем и будущем я с наибольшим удовольствием читал ей. Ничто от нее не ускользает, она понимает все, на ее подвижном лице отражаются все оттенки самого произведения и это ободряет чтеца», – писал Толстой другу Болеславу Маркевичу.
Но любовью к охоте Александр Второй мог посоревноваться с Толстым. Казалось, ни один царь не уделял такое значительное внимание охотничьему делу. Он охотился с азартом на крупного зверя: медведя, кабана, зубра, лося. Царь охотился в Гатчине и в Беловежской пуще.
В 1872 году он подвергся смертельной опасности. Медведь был слишком большим. Загонщики повели облаву слишком жарко и разъярили зверя, который выскочил на линию стрелков прямо против государя и скоком побежал на него. Александр выстрелил и промахнулся. Пуля попала медведю в плечо. Зверь яростно бросился на царя. В это время рогатник Николаев принял медведя. А унтер егерь Иванов выстрелом в упор убил. Они были очень хорошо награждены.
Много внимания Александра уделил Беловежской пуще, до него там никто не охотился, это место было только зверинцем зубров. Первая охота произошла в августе 1860 года. Желая потешить царя после охоты крестьяне начали пляски, на берегу вспыхнули бенгальские огни. На месте, где стоял Александр на охоте, он сам посадил молодой ливанский кедр.
Александр Николаевич совершил много преобразований в культуре. Преподавание в университетах в его царствование получило больше свободы. В университетских аудиториях появилась посторонняя публика, мужская и женская. В студенческую жизнь было внесено такое же оживление, какое царило тогда во всем обществе. В начале царствования императора Александра II (при министре А. В. Головине) доступ в гимназии открывается для детей «всех состояний без различия звания и вероисповедания». Появляются гимназии двоякого типа: классические (с древними языками) и реальные (без древних языков, с преобладанием естествознания).
Классическая гимназия, вызвавшая столько неудовольствий и ненависти в обществе из-за зубрежки древних языков, была моделью идеального образования, и за основу взята мысль о высоком воспитательном значении классицизма. Считалось, что классицизм сможет направить юношество прочь от революционных утопий.
Мария Александровна прикладывает большие усилия для укрепления женского образования в России. Императрица по своему решению проводила там реформы. Она решила отпускать девочек из закрытых институтов домой в отпуск, чтобы они не отвыкали от своей семьи. Сама Мария Александровна родила восьмерых детей.
При ее участии были образованы общества восстановления христианства на Кавказе, вспомоществования бедным церквам и приходам, распространения духовно нравственных книг, российское миссионерское общество. Во время русско-турецкой войны она открыла первое в России отделение красного креста и множество госпиталей, основала общество призрения слепых…
При поддержке Александра Николаевича царица основала театр и балетную школу, которую позднее возглавила Агриппина Ваганова. И школа, и театр полностью содержались на средства императорской фамилии, и лично Государыни. Сейчас театр носит имя Марии Александровны
Несмотря на то, что судьба Марии Александровны складывалась удачно, она довольно часто пророчила себе какое-то мрачное будущее. Так, во время коронации у нее с головы упала корона, она сказала Тютчевой, «Я убеждена, корона тяжкое бремя, и долго мне ее не проносить». Во время коронации уронили и символ державы: вельможа, державший ее, потерял от духоты и волнения сознание. Александр Второй не спешил с далеко идущими мистическими выводами и только жалел, что бедняге стало плохо. Но при дворе о странных знаках говорили.
Вскоре после вести о первом покушении на Александра в летнем саду 4 апреля 1866 года пришла другая, не менее тяжелая для сердца супруги весть, – царь серьезно увлекся молодой княжной Екатериной Михайловной Долгорукой. Говорили, что он впервые почувствовал женскую заботу, ему нравилось, что Катя потребовала заменить ему жесткий матрас, что наперечет знает выписанные ему лекарства. Ему хотелось теплого гнезда, Мария Александровна была для него слишком надмирна. Царь гордился, что полюбил русскую из древнего рода Рюриковичей и мечтал короновать ее Екатериной Третьей, а потом передать престол их общему сыну Георгию. У Марии Александровны уже давно к этому времени открылся туберкулез и всем казалось, что ее дни сочтены. Она проводила свои дни в Ливадиийском дворце, среди молитвы и упования. Потом решила переехать в Зимний. Прямо над ее покоями бегали дети Долгорукой, и Марии Александровне нужно было найти в себе мужество, чтобы не плакать и не бросать об пол посуду. В последние годы жизни она изучала иконопись и собирала иконы. Александр II делал своей жене ежедневно лишь короткий официальный визит. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных императрице, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует император, заискивал перед его новой пассией.
После смерти императрицы царь венчался с Екатериной Михайловной, он боготворил ее и много ее рисовал, иногда и в довольно откровенном виде. Многие в стране говорили, что трагическая гибель царя 1 марта 1881 года – на екатерининском канале от бомбы террориста напрямую связана с его изменой венчанной жене.
Екатерина Долгорукая жила всю жизнь в Ницце, продиктовала французу Лаферту книгу о себе и Александре Николаевиче. В Ницце она запомнилась тем, что, организовала для животных поильню. Ее дочь Ольга вышла замуж за внука А.С. Пушкина, Георга Меренберга.
Таков конец этой идиллии.
А принцесс – жалко.