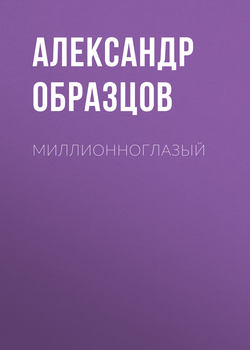Читать книгу Миллионноглазый (сборник) - Александр Образцов - Страница 24
Александр Третий
ОглавлениеВЕЛИКИЙ князь Александр Александрович не был наследником престола. В императоры готовили по традиции его старшего брата – Николая Александровича, Никса. Только с двадцатилетнего возраста, после скоропостижной смерти Николая, АЛЕКСАНДР стал получать образование, подходящее его новому призванию. Главным учителем и куратором, духовным другом великого князя был профессор Победоносцев. Основой их сближения стали строгие взгляды и консервативные симпатии того и другого.
Победоносцев не был доволен вначале Александром и записывал в дневнике «Я пробовал спрашивать великого князя о пройденном, чтобы посмотреть, что у него осталось в памяти, – не осталось ничего и бедность сведений, или, лучше сказать, бедность идей удивительная». Но эта бедность, можно сказать – верность идей впоследствии облегчила сотрудничество Победоносцева со своим учеником. Александр, слава богу, никогда не страдал либерализмом. Он был простодушным и честным как былинный герой, в истинно русском духе. И здесь надо решить наконец вопрос о степени «русскости» Романовых. Или северонемецкие принцессы, привозимые в Россию, имели русские корни и их чистота поддерживалась с немецким педантизмом, или – что маловероятно – эти принцессы, став императрицами, имели детей от сугубо русских отцов. Иначе патриотизм поздних Романовых необъясним.
Осенью 1866 года Александр венчался с очаровательной датской принцессой Дагмарой, которая получила в православии имя Марии Федоровны. Мария Федоровна верила, что жизнь ее в России будет похожа на сказку, благодаря ее будущему мужу. Среди провожающих ее на пристани в Дании был писатель Ганс Христиан Андерсен. Но он не слишком радужно относился к отъезду Дагмар: «У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней!»
Мария Федоровна была бывшей невестой покойного брата Николая, – умирающий соединил руки Марии и Александра, вручая их друг другу. Минни была жизнелюбивая, жизнерадостная, милая. Ей были присущи искренность и открытость. АЛЕКСНАНДР с удовольствием наблюдал, как его Маня нравится и великим князьям, и лицам свиты, и ловким веселым гвардейским офицерам. Мечту Александра иметь семью и детей Минни воплотила максимально счастливо. «Моя собственная жена! – восторженно восклицал Александр, глядя на нее. – Моя душка Минни!». Даже когда он с отцом и братьями отправлялся на охоту в Гатчине, Минни не выдерживала многочасовой разлуки и выезжала, бывало, навстречу на станцию, в маленькой тройке.
Жизнь северной принцессы в России с первых шагов была не так уж легка: свекровь, императрица Мария Александровна, тяжело болела, жизнь ее требовала мимимума физического напряжения и переживаний, потому – то, почти сразу по приезде Дагмар в Санкт – Петербург и принятия ею православия передала императрица под опеку невестки уже слабеющей рукою все восемьсот с лишним учреждений, так называемого «Мариинского ведомства» – дома призрения, монастыри, больницы, приюты, училища и дворянские институты: Смольный, Патриотический, Павловский, Екатерининский, Елизаветинский, и их филиалы по всей России. Под покровительство Цесаревны и ее супруга попали также все родовспомогательные учреждения, в том числе – институт акушерства, дома – пансионаты для умалишенных, Общество Красного креста, Общество покровительства животным и даже… Общество спасения погибающих на водах! Минни и Александр иногда терялись, распределяя по минутам свой день, и не зная, куда поехать прежде: в Патриотический институт для девочек из семей погибших воинов – офицеров или же на лекцию Санкт – Петербургского географического общество, почетными членами которого они оба являлись.
Появлялись красивые и здоровые дети, милые сердцу родителей. Мария Федоровна и Александр сами воспитывали их. Через два месяца после рождения второго сына – Александра – молодая великокняжеская чета стала собираться в долгую дорогу: в путешествие по маршруту – Москва – Нижний Новгород – Кострома – Казань – Симбирск, и множество, множество сопутствующих сел и городов. Именно после той поездки Цесаревна сказала мужу, что «Россия – ее страна навечно»!
Александр не имел особенных литературных способностей, но когда касался в письмах детей, в его стиле и слоге проявлялась его любовь и нежная душа. Когда дети ввиду отъезда Марии Федоровны в Данию оставались с отцом, он писал об их поведении и курьезных случаях из их жизни. Так, он вспоминал об одной из гатчинских прогулок: «В половине четвертого пошли гулять с Ники, Жоржи и Мишкиным (сыновьями Николаем, Георгием и Михаилом). Отправились мы, наконец, ловить ослов. Мишкин был в таком восторге, что, наконец, придет домой с ослом, что всю прогулку только об этом и говорил и приготовлялся, но когда мы пришли к ослам и они начали все разом орать, Мишкин струсил и остолбенел от удивления».
А.Н. Майков сообщал Достоевскому, что наследник «входит в большую популярность». «Как я рад, что наследник в таком добром и величавом виде появился перед Россией, и что Россия так свидетельствует о своих надеждах на него и своей любви к нему», – отвечал писатель.
Как и все Романовы особую склонность Александр питал к военным наукам, но также очень рано начал проявлять интерес к русской истории. Он завел свою историческую библиотеку, которая непрерывно пополнялась. Он любил не только сухие документы, но исторические романы, романы Лажечникова, Загоскина. Он знал и основные произведения русских классиков. Судя по дневниковым записям, Александр был знаком с нелегальной печатью, читал с интересом журнал «Колокол». В 1866 году Александр стал деятельным участником собраний русского исторического общества. Библиотека Аничкова превратилась в центр регулярных собраний маститых любителей и историков. Он оказывал обществу финансовую и моральную поддержку, издавались крупные фолианты-сборники исторического общества, он считал, что
«историческое знание дает настоящую силу природному национальному чувству». Близко и сердечно царь принял идею создания Исторического музея в Москве. 1879 году Александр писал брату великому князю Сергею Александровичу: «Жду теперь твоего письма о московском историческом музее. Надо непременно помочь и привести все в порядок». Открытие его состоялось в день коронации Александра Третьего.
У него сложились доверительные отношения с историком Николаем Карловичем Шильдером. Александр был убежден в серьезности трудов Николая Карловича, к тому же его живо занимали оба его великих предшественника – Павел и Александр Первый. По личному разрешению царя историк имел доступ в самые секретные архивы. Александр был особенно заинтересован рассказом Шильдера, когда тот сообщил, что читал рукописи, в которых описывались случаи исцеления по молитве старца Федора Кузьмича. У Шильдера как-то очень заболела голова, он сидел у себя дома и подумал, что поверил бы в святость старца, если бы тот исцелил его от мигрени. «Вы не поверите, – восторженно говорил Шильдер царю, – не успел я подумать об этом, как открывается дверь, в мой кабинет входит сам старец, таким, как изображается на портретах. Он положил мне руку на лоб. Рука была теплая, как у живого человека. Он начал молиться. Я чувствовал, как уменьшалась боль, а затем и вовсе прекратилась. Тогда Федор Кузьмич исчез». «Но это же чудо!» – воскликнул царь, – «чтобы доказать, что старец и Александр одно лицо, надо вскрыть могилу!» – продолжал он. Шильдер был против. Он считал, что это вызовет нежелательные пересуды. Может быть, у него были и другие доводы, сугубо личные.
Александра Третьего долгое время продолжала интересовать тайна ухода Александра Первого. Он верил в духовное покровительство Александра роду Романовых. Вообще же случай с историком Шильдером, а через какое-то время с Григорием Распутиным доказывает чрезвычайно симпатичную черту Романовых – их простодушие. Вспомним в этой связи, как Петра Великого надул первого апреля немецкий купец. Но простодушие замечательное семейное качество. В управлении страной оно опасно.
Со временем все теплее становились отношения Александра с Константином Петровичем Победоносцевым. Тот замечал, что цесаревич стал свободнее в разговорах и суждениях. «Боже, как бы в нем мысль и воля окрепли» – делился он со своим верным конфидентом Е.Ф. Тютчевой. После взрыва в Зимнем дворце Александр при поддержке Победоносцева понимает, что ему нужно вести крепкую охранительную политику. «Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы повели ее твердой рукой, чтобы правящая власть видела ясно и знала твердо, чего она хочет и чего не хочет и не допустит никак», – говорил Победоносцев Александру в день гибели Алекандра Второго от рук террористов. В дни после убийства Александра Второго Победоносцев видит в Александре «бедного больного ошеломленного ребенка». Но будет доволен тем, как преобразится цесаревич, как превратится в доброго молодца, охраняющего вверенную ему страну. Он помогал формировать Александру не только политический курс, но и культурные реформы.
В потоке писем Александр особенно был ошеломлен анонимным письмом, где говорилось: «Отец твой не мученик, и не святой. Потому что пострадал не за церковь, не за крест, не за христианскую веру, не за православие, а за то единственно что распустил народ, и этот распущенный народ убил его». Много нравственных сил потребовало решение казнить убийц Александра Второго. К тому же к царю обратились деятели культуры – Толстой, и позже, философ Соловьев с просьбой простить революционеров. «Пусть царь и самодержец заявит на деле, что он прежде всего христианин» – писал Владимир Соловьев. Победоносцев укрепил царя в соблюдении строгих мер к террористам. «Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавить осужденных преступников от смертной казни», – возмущенно писал он.
Под влиянием Победоносцева Александр формировал культурную политику страны. По поводу появившейся драмы Толстого «Власть тьмы» он писал: «Простите ваше величество, что нарушаю покой ваш своими письмами, но что делать, когда душа не терпит. Я только что прочел новую драму Льва Толстого и не могу прийти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на Императорских театрах и уже разучивают роли. Искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства. Какое отсутствие, больше того, отрицание идеала. Посмотрите-ка, вот в чем ваша вера, баба, убивая несчастно ребенка, не забывает крестить его и затем давит. Больно думать, что женщины с восторгом слушают чтение этой вещи и потом говорят о ней с восторгом. В „Преступлении и наказании“ Достоевского при всем реализме художества чрез все действие проходит анализ борьбы и какой еще, идеал ни на минуту не пропадает. А это что такое, Боже мой, до чего мы дожили в области искусства!»
Так и хочется прокричать в белозубое безумие экрана – Победоносцев, ау! Приходи!
По поводу пьесы Толстого последовал такой ответ царя: «Благодарю вас, любезный Константин Петрович, за ваше письмо о драме Толстого. Драму я читал, и она сделала на меня сильное впечатление, но и отвращение. Могу вас успокоить, что давать ее на Императорских театрах не собирались, а были толки о пробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать, или совершенно запретить. Мое мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать никак невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету». Вообще, раннее творчество Толстого нравилось Александру. В романе «Война и мир» он зачитывался описанием батальных сцен. Он считал, что как художник Толстой велик, как философ жалок. Царь пытался помочь Л.Н Толстому в издании его произведений, разрешил печатать запрещенную цензурой «Крейцерову сонату» в ПСС. Когда стали распространяться скандальные антицерковные статьи Толстого, в которых он уверял, что правительство довело Россию до голода, Александр сказал графине Александре Андреевне о писателе: «Он предал меня врагом моим». Министру внутренних дел графу Д.А. Толстому заметил: «Прошу вас Толстого не трогать. Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на него всеобщее негодование».
Александр любил тихие семейные вечера в милом его сердцу Аничковом, коротание времени за шахматами и картами. Любил он и Царское, и Копенгаген, и Фреденсборг, куда они ездили морем к родным Минни на яхте «Цесаревна».
Александр упивался романом Достоевского «Преступление и наказание», опубликованном в журнале «Русский вестник». Потом записывал в записной книжке: «Так интересно, как никогда еще не было». Он хотел заразить Достоевским Мини, но не рисковал переводить с листа, а пересказывал кусками. Она первая познакомилась с Достоевским 8 мая 1880 года на вечере в Мраморном дворце у великого князя Константина Константиновича. Достоевский читал три часа «Исповедь Зосимы» из романа «Братья Карамазовы», рассказ «Мальчик у Христа на елке». И никто не устал. Цесаревна сама разливала чай, но неотрывно слушала. Победоносцев посоветовал Достоевскому преподнести цесаревичу роман «Братья Карамазовы». Федор Михайлович заказал дорогой переплет для подарочного экземпляра.
Дочь писателя так описывал встречу отца с августейшей четой: «Его и Ее Высочества приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу. Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиниться этикету двора. Он говорил первым. Вставал, когда находил, что разговор длится достаточно долго. И, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной». Но это никак не отразилось на симпатии к нему цесаревича. В 1873 году, поддерживаемый Победоносцевым, Достоевский пишет наследнику письмо, объясняя, что двигало им при написании романа «Бесы». Письмо говорит о том, что наследник довольно рано стал восприниматься частью российского общества как человек, которому близки не европейские идей, но мысли о русской самобытности.
В 1879 году Александр начал составлять список литературы, им прочитанной. В него входили в основном русские писатели главные и второстепенные «Он вообще очень любил русскую литературу, – вспоминал граф С.Д.Шереметев – бывало, о чем ни заговоришь, он все знает, все читал». В его записных книжках можно было найти переписанные им любимые стихотворения.
После императора Александра Третьего (за исключением, может быть, И.Сталина) ни один лидер России и приблизиться в этом смысле не может к «тупому солдафону». О времена, о нравы…
Время от времени Минни пыталась убедить мужа сменить обивку и мебель в его кабинете. Александр был непритязательным и мало обращал внимания на обстановку. Он отвечал добродушно: «Сойдет пока и так! Зато качество-то какое!» Любимым местопребыванием Александра со временем стал дворец в Гатчине. Здесь он чувствовал себя защищенным. Он поселился в бывших апартаментах Павла Первого, память которого непременно чтил. Каждый день Александр прикладывался к Распятию, принадлежавшему Павлу. В судьбе императора он видел некий крест Романовской судьбы, – вечное сражение со злом.
Когда Мария Федоровна впервые встретилась со знаменитой Елизаветой Австрийской, они, не уступавшие друг другу в веселости, крепко подружились. О Елизавете ходили легенды, ее поведение считали эксцентричным. Однажды, чтобы разрешить спор о пользе гимназических упражнений, они обе после обеда затеяли состязание и принялись кататься колесом. В этом виде спорта Мария Федоровна, как и ее сестра Аликс, отличалась в юности. Интересно, что Дагмар в одну из встреч с Александром Александровичем, еще женихом, прошлась перед ним колесом и сделала сальто, что вызвало его удивление, и смех. И он еще больше в нее влюбился.
В Дании возникла страсть у императора к коллекционированию. Он осматривал собрания королевских дворцов, не раз восхищался изумительными вещами. Он купил несколько старых бокалов у антикваров, покупал хрусталь, майолику, фарфора, изделия из серебра. У него не было специальных знаний, вкус его формировался постепенно. Он признавался, что должен любить картины старых мастеров, но собственного влечения к ним не имеет. Ему нравилась современная русская живопись, он говорил, что от импрессионистов у него изжога.
Александр регулярно посещал выставки художников передвижников, русская реалистическая манера была ему близка и понятна. Установилась традиция, не продавать работ с выставки до приезда императора. Понимая, что психология передвижников довольно далека от монархической, АЛЕКСАНДР выбрал разумную линию, – не размениваться на мелкие подачки, не жалеть средств на предоставление передвижникам крупных заказов. Он считал, что распространять искусство есть дело государственной важности.
В некоторых суждениях он был неожиданным, так, ему не слишком нравилось творчество Верещагина. «Читая каталог картин Верещагина, становится жалко, что это будут единственные картины в воспоминание славной войны 1877-78 года, и это все, что мы оставили нашему потомству». Ему казалось, что картины Верещагина слишком приторны.
Вообще, Александр был один из наших самых набожных монархов. Самые важные богослужения он всегда отстаивал до конца, духовную музыку любил больше чем светскую. Его придворная капелла состояла из музыкантов высшего класса, царь особенно любил сочинение Бортнянского «Чертог твой», «вкусите и видите». Он молился в Исаакиевском, Петропавловском соборах, но и простые обедни, справляемые одним священником, будь то в Ливадии или в Петергофе, он любил посещать. Он был ревностен и строг к исполнению правил церковной жизни.
С 1872 году было создано общество любителей духовой музыки. Для участия в оркестре Александр Третий заказал себе геликон особого размера, так как ему было трудно влезать в инструмент обыкновенного размера. Кроме того, он любил с любимой Минни играть в четыре руки Бетховена, Глинку и Чайковского.
Мария Федоровна любила Шопена и Моцарта. Муж отдавал предпочтение Глинке и Чайковскому. Они довольно часто вместе посещали полюбившиеся спектакли. Так, известно, что несколько раз за сезон они прослушивали
«Фиделио» Бетховена, «Ромео и Джульетту» Гуно, а в драме бывали на «Женитьбе Белугина».
Александр умер 20 октября 1894 года в Ливадии, не дожив до пятидесяти лет. В могилу его свела давняя болезнь почек, нефрит, осложнившийся после трагедии на станции Борки, когда царь колоссальными усилиями удерживал над своей семьей крышу вагона потерпевшего крушение поезда. Никто из его домашних серьезно не пострадал, хотя жертвы в этой катастрофе насчитывались сотнями.
Умирал царь в присутствии своей семьи и священника, которого к этому времени почитала вся Россия, при отце Иоанне Кронштадтском.
Но ни Иоанн Кронштадский, ни сам Господь Бог не в силах были остановить крушение поезда Российской империи. И единственное, что мог сделать богатырь Александр – удержать над семьей на время крышу вагона, летящего под откос.