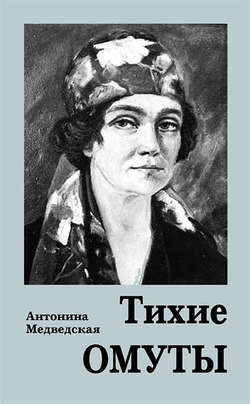Читать книгу Тихие омуты - Антонина Медведская - Страница 25
Часть II
Незабудки, незабудки…
2
ОглавлениеЗаросло травой кострище, где мы недавно, счастливые, варили уху и пели песни. И строили планы на будущее, мечтали, не чуя беды. Выловили в Ухле рыбешку, будто сквозь сито процедили реку. Опустели берега. Ни души! Только одна я каждое утро бегаю вдоль сонной воды узкой тропкой, проложенной рабочими торфоразработок. И не по доброй воле и охоте – дело гонит: ношу брату Сашке обед. Бегу быстро, чтоб не остыла пшенная похлебка. В узелке, который несу, кроме крынки с похлебкой кусок хлеба с мою ладошку. Хлеб черный, вязкий, кислый, но все же – хлеб! И мне никак не отделаться от этого хлебного запаха. Он, этот запах, до того хорош, что нет сил: сосет под ложечкой и кружится голова. Только бы не зацепиться за кочку, не упасть, не уронить бы узелок с крынкой. Бегу, бегу и пытаюсь обмануть себя, как-нибудь заглушить чувство голода. Глубоко вдыхаю запахи трав и цветов, но к своей досаде не слышу этих медвяных ароматов: пахнет хлебом!
Мой брат Сашка – рабочий, добывает топливо для стеклозавода. В бумажке из сельсовета прибавил себе два года и стал не четырнадцати, а шестнадцатилетним парнем, что и надо было, чтоб устроиться на торфозавод. И теперь ему, рабочему, полагался повышенный паек: восемьсот граммов хлеба, сто пятьдесят граммов пшенной крупы и тридцать граммов растительного масла. Все это выдавалось каждодневно на торфоразработках в конторке прорабом и по совместительству завхозом дядей Васей. Он точно взвешивал эти продукты – ни полграмма меньше, ни полграмма больше – будто это были не куски хлеба, крупа и постное масло, а самое опасное лекарство.
Сашкин паек – немыслимое богатство по тем голодным временам. Он приносил его вечером после работы и вручал маме. И если бы все это добро ему одному, то-то жил бы он барином, но… Не получалось так, дома семья, иждивенцы. Иждивенцам полагалось только сто пятьдесят граммов этого горе-хлеба на день, и все, и больше ничего. Только хлеб, малый квадратик, испеченный Бог знает из чего. Но и такой хлеб был дорогим и желанным благом.
Отец получал рабочий паек: четыреста граммов хлеба на день. К хлебным выдавали еще и другие продуктовые карточки. В аккуратных квадратиках было напечатано: «сахар», «жиры», «крупа», но никаких жиров, сахара, круп в наш поселковый магазин не привозили и карточки не отоваривались. А за хлебом надо было ежедневно отстаивать длинную очередь. Это было моей обязанностью.
Первым сдал отец, он ослабел, оставил свой станок у печи с раскаленным стеклом и перешел на работу в шорную мастерскую при заводе. Десять заводских лошадей отвозили изделия стеклозавода на железнодорожную станцию летом на телегах, зимой на санях. Известно, если лошади все время в дороге, сбруи на них не напасешься. Только успевай, шорник, чинить да латать.
В прошлом знаменитый садовник, стал отец мастером-стеклодувом высокого класса. Не «сидел» на банках, бутылках, стаканах – его работой любовались, выставляли в директорском кабинете напоказ. Кувшины, вазы для цветов, удивительные конфетницы и разные иные диковинки поражали причудливой формой, красотой. Мог отец сделать из стекла и прозрачную лебединую стаю, взлетающую с зеркального озера, а то и грибную семейку под разлапистой хрустальной елью… Работая в шорной мастерской, он страшно тосковал по стеклу, по ночам мучился от бессонницы, вздыхал.
– Ну, что ты себя изводишь? Сидишь спокойно, чинишь хомуты с постромками – работа эта сейчас аккурат по твоим силам. Вон молодые мужики и те у печи за верстаками не выдюживают без еды, а ты ж человек в годах, – утешала его мама, как могла.
Отец не сдавался:
– От этих хомутов моя душа в дохлую лягушку обернулась, мрет, а все одно – болит! Будто живая, болит. Чую я, Анюта, скоро выскочит из меня эта моя болючая душа и полетит в тартарары.
– Если душа уже дохлая лягушка, так как же ей выскочить… – сказала мама отцу и тут же пожалела, что вырвалось неловкое словцо.
– От ты, баба, позубоскалишь, когда останешься одна горе мыкать. А мне что, мне будет добро: и никаких забот! И вочи мои не будут видеть того, что кругом вытворяется.
– Ну а я, а дети, что с нами без тебя будет?
– Дети, даст Бог, выживут. Ты, Анюта, не дашь им загинуть. Я ж не дал пропасть твоим четырем в гражданскую, теперь ты одна сбережешь наших с тобой четырех.
– Умирать собрался! – и мама заплакала. Мне было жалко родителей. Мама, втянув голову в плечи, ушла. Захотелось за ней убежать, утешить, но взглянула на отца, на его давно небритое лицо с глубокими морщинами, ввалившиеся глаза, прикрытые веками, будто подкрашенными синькой.
Я устроилась рядом и сидела, поглаживая кисть его усталой руки, пока он не уснул.
Спохватилась, где же мама? Побежала ее разыскивать. Она в сенях крошила крапиву для похлебки. Глаза заплаканные. Я обняла ее:
– Не горюй, мамочка. Вот насобираю и насушу грибов, ягод, разных кореньев. Насолим на зиму головок клевера, крапивы, заячьей капусты. А если еще вырастет картошка из тех очистков с глазками, которые ты посадила… Не горюй, мамочка, не горюй, выживем!
– Ой, горе вы мое, горе! Не на радость, не для счастья я вас родила. Что же ждет вас всех, дети вы мои, дети, что же вас ждет?
От рабочего поселка до торфоразработок около трех километров, но мне всякий раз казалось, что больше, может, все пять. Бегу, бегу со своим узелком и с нетерпением жду, когда станет слышен грохот «адской машины», что перемалывает торф. Маслянистое черное месиво змеем выползает из пасти этого железного агрегата и скользит по конвейеру-желобу вниз, где стоит мой брат Сашка с огромным ножом-секачом и рубит торф на кирпичи. Его напарник, высокий и тощий, как колос ржи в засуху, подхватывает эти смрадные блоки и укладывает решеткой для просушки.
Сашкиного напарника зовут Костя Канарейкин, но чаще его называют Колосом. И прозвали Канарейкина так не только за высокий рост и тощую фигуру, но еще и за волосы, торчащие на его голове в разные стороны ячменными остяками. Волосы у Кости совершенно белые не столько от природы, сколько от того, что выбелили их солнце, дожди и болотные туманы.
Стоило мне с узелком приблизиться к этому грохочущему торфяному агрегату, как Колос первым, будто ждал моего появления, пересиливая грохот, кричал:
– Санька-а! Вон уже ветром несет по болоту твою сеструху. И как ее, этакую, в Ухлю не сдует, как соломинку?
Он еще издали, грязный с головы до ног, будто нарочно вывалялся в торфяной жиже, отвешивал мне поклон до земли.
– Колос! Будет тебе дурачиться! – одергивал его Сашка. – Шевелись проворнее, завал накопишь.
Колос шевелился, и мой брат Сашка тоже. Он, как автомат, рубил торф. Таким каторжным трудом эти еще зеленые, неокрепшие парнишки добывали себе кусок хлеба. Каждый раз, когда я видела их, хотелось плакать.
На торфоразработки я прибегала минут за двадцать до обеденного перерыва. Примостившись где-нибудь в сторонке, думала: «Скорее бы пришел вызов из Минска в ФЗО, скорее бы уехать! А вдруг не вызовут, не примут на учебу? Тогда как? Боюсь голодной зимы. Сашкина работа на торфе с холодами кончится. Что станет с нами, с отцом и матерью, с братьями?» Я отделывалась от своих горьких дум только тогда, когда прораб дядя Вася начинал бить молотком в кусок подвешенного рельса. Сигнал к обеду.
Брат забирал у меня узелок с едой. Он ни о чем не спрашивал, я ничего ему не рассказывала. Устроившись на досках у стены конторки, он быстро съедал обед, а иногда оставлял несколько глотков похлебки в крынке, подходил к Колосу:
– Замори червяка, а то опять растянешься с бруском торфа в руках…
Колос отмахивался от Сашки и уходил подальше, но, случалось, и принимал крынку, чтоб заморить червяка.
Костя Канарейкин появился в нашем поселке года два тому назад, как и другие молодые парни, бежавшие из разоренных деревень. Их всякими правдами и неправдами принимали на работу – на завод, в обоз, на торф, на вывозку песка из карьера. Жили эти рабочие в общежитии, деревянном бараке. Канарейкин упросил кадровика послать его на торф: паек завидный! Первые дни он с трудом выдюживал смену, к концу рабочего дня его шатало, как пьяного, и он, случалось, падал, не выпуская склизкий кирпич торфа из цепких худющих рук. Но зато приходил в барак богач богачом, приносил завидный паек, да только не успевал и оглянуться, как паек исчезал: его крали. А иногда и того хуже: подкараулят в темном длинном коридоре и отберут да еще и пригрозят. Вот и нашел Костик выход – стал съедать свои драгоценные продукты тут же, на торфоразработках. Хлеб макал в постное масло и ел, а крупу сжевывал сырую. А затем ждал следующего вечера, когда закончится рабочий день и он снова получит положенную порцию хлеба, масла и крупы из рук дяди Васи.
Когда-то дядя Вася был веселым жизнелюбом, мог пошутить, потешить людей игрой на балалайке. А уж если человек оказывался в беде, дядя Вася тут как тут – помогал как мог. Вот и теперь, в лихое голодное время, нет-нет да и сунет с утра кусочек хлеба Колосу.
Любили дядю Васю и уважали за честность и доброту; и уж никто не ждал, не гадал, что свалится на этого человека беда такая, что за одну ночь согнет сорокапятилетнего мужика, превратит в седого старика. Учились в медицинском институте два его сына, Борис и Глеб. Он их вырастил один, без жены, рано она у него умерла. Не взял дядя Вася новой хозяйки в дом, всю любовь и заботу только сыновьям своим отдавал. Вырастил хороших парней. И уж сколько было радости и гордости у отца, когда оба они сдали экзамены в медицинский. «Все силенки приложу, а ребяткам помогу закончить учебу…» – говорил он близким ему людям. И положил бы дядя Вася свои силенки на то, чтоб помочь сыновьям закончить институт и стать врачами, да не судьба. На третьем курсе среди белого дня прямо с лекций забрали Бориса и Глеба. А за что забрали, в чем они провинились, никто из их друзей и преподавателей не знал. Дядя Вася понимал, что время лихое для народа наступило, что без причин людей хватают. Он же знает своих мальчишек: ничего бесчестного они не могли совершить, значит, их схватили ни за что! Где ж они теперь, что с ними? Ведь сыновья для дяди Васи – единственная радость и надежда. Ездил он ездил, пытался узнать о судьбе своих детей, да не тут-то было – глухая стена. А недавно решил еще раз попытать удачи – поехал. Вернулся через два дня – краше в гроб кладут, да с той поры таким и остался, таким жить продолжал.
Кончались короткие минуты перерыва на обед. Вновь включали агрегат, и Сашка шел к своему рабочему участку, к ползущему по желобу маслянистому торфяному змею и рубил его, будто самого лютого врага, махал и махал тяжелым ножом-секачом от зари до зари в бескрайнем царстве болот, заживо съедаемый комарами и разным иным гнусом. И рядом с ним Колос, как маятник: туда-сюда, туда-сюда…
Когда Сашка приходил домой, мама ахала, до того он был изнурен. Она доставала из печи котел теплой воды и поливала из ковша на распухшие руки сына, мыла слипшиеся волосы на его голове, смывала щелоком с его тела жирную торфяную грязь. Накинув на себя чистую рубашку, Сашка опускал ноги в жестяной таз с водой и мгновенно засыпал, а мама опускалась на колени, мыла его ноги и плакала.
Так вот и угасал безрадостный день и наступал такой же. Люди, голодные и обессиленные, засыпали и просыпались в страхе и тревоге еще и потому, что ходили слухи, один другого страшнее. Голод страшен, а неволя – еще большая беда… Ну, а пока такая беда не грянула, надо живому как-то жить и надеяться, авось пронесет, авось и голод не одолеет.
Опять бегу вдоль Ухли, несу Сашке его обед. Бегу тропкой, изученной до последней кочки, смотрю под ноги и вот тебе – препятствие! Сапоги на тропе… Поднимаю глаза и холодею от страха. Стоит незнакомый человек, с виду – леший. Будто он только-только выполз из торфяных болот и стал столбом на моей дороге. Лицо, обросшее щетиной, глаза горят, как у нечистой силы, и вот-вот выкатятся из-под бровей.
– Что у тебя в правой руке? – прохрипел человек-леший. Я молчу.
– Покажь! – он шумно втянул ноздрями воздух и, конечно же почуяв запах хлеба, вцепился в узелок.
– Не отдам! – завизжала я сколько было сил. – Это брату!
– Твой брат ест каждый день, а я уже неделю не ел. А ну отпусти узел добром! – и человек-леший в обшарпанной, некогда фасонистой куртке заломил мою руку так, что от боли слезы брызнули у меня из глаз. Вырвав узелок, он тут же присел на корточки и, запрокинув голову, стал жадно пить похлебку из крынки. Я с ужасом следила за тем, как на жилистой шее грабителя ходит острый кадык: вверх-вниз, вверх-вниз…
Крынка мигом опустела. Хлеб он поднес к носу, глубоко вдохнул его запах, прикрыл глаза, но есть не стал, а спрятал в карман куртки и, как бы очнувшись и вспомнив обо мне, уставился одичалыми рачьими глазами в мое помертвевшее от страха лицо. Я съежилась. Как во сне ощутила: черная торфяная тропа, Ухля с незабудками, заросли пахучих трав – все это качнулось и поплыло перед моими глазами.
– Пошла прочь! И запомни: если кому вякнешь, не жить тебе. Задавлю и в Ухлю закину, там тебе и крышка. Поняла? – услышала я, как из-за глухой стены, голос человека-лешего.
Тут же он нырнул в травы, как в омут, и исчез, будто его вовсе не было, будто мне приснился дурной сон. Еще несколько мгновений стояла я оцепеневшая, но вот, обретя силы, подхватила пустую крынку и платочек, все еще пахнувщий хлебом, помчалась домой, к маме.
Что мне угрозы этого грабителя, что его страшные слова: «Задавлю, в Ухлю заброшу!» Он съел Сашкин обед! Как же теперь доработать брату до вечера без еды? Он же будет меня ждать…
Оглушенная бедой, свалившейся на меня, я вбежала в дом. И только тогда разревелась так, что ни мама, ни прибежавшая на мой плач соседка Варька Баранова не могли разобрать ни единого слова, не могли понять, что же произошло. Когда, наконец-то, я смогла внятно все рассказать, мама закрыла лицо руками, а Варька Баранова взорвалась. Она стучала кулаком в лоб и кричала, что мой обидчик – тот самый враг народа, которому удалось дать стрекача, когда гепеушники везли арестантов в город лесом. В него стреляли, да не попали. Вот он теперь и бродит, бывший начальничек, людей грабит…
– А был в районе шишечка – не подступись, – рассказывала Варька, – за пустяшной справкой к нему находишься, накланяешься да под дверьми настоишься. А вишь, как оно обернулось… И скажите на милость, что это уж больно много врагов народа объявилось, откуда они берутся? И зачем же они разные козни своему же народу строят? Выходит так, что это они и голод учинили, людей с детишками морят, на нет народ наш изводят. Вот думаю, что им не жилось и не живется, как нормальным людям, почто во враги народа подались? – и, помолчав, решила: – А он, поди, и не знает…
– Ты про кого? – спросила мама.
– Про Сталина – про кого же еще? Ясное дело – не знает! Мы ж ему, как раньше Богу, верили. Так неужто он станет свой же народ морить? За что? Нет, такого не может быть, ни за что не поверю, ни за что! Знаешь, Анюта, – понизила Варька голос до шепота, решили мы, заводские бабы, письмо Сталину писать. Все, все ему опишем, как голодуем, как заводские молоденькие парнишки, что у станков стоят, стекло дуют, с подмостков голодные в обморок падают. Напишем, как из барака каждую неделю мертвенького парнишку выносят да за больницей под сосенками в белый песочек зарывают. А им бы жить да жить – шестнадцать, семнадцать годочков. А мои-то девочки, мои-то родненькие на глазах моих тают, на руках материнских вянут. Глядеть на них – сердце разрывается…
Пока Варька Баранова, плача, изливала свою душу, мама с окаменелым лицом заново собирала еду и, завязав в узелок крынку похлебки с куском хлеба, сказала:
– Неси, дочка. Иди, иди с Богом. Этот бандюга тебя больше не тронет. Он нашкодил, так теперь уберется куда подальше с этих мест. Беги, не бойся. А Сашке пояснишь, почему опоздала. Попросишь дядю Васю, он пяток минут порубает торф вместо Сашки. А то и сама встань, Сашка и поест. А мы уж сегодня обойдемся без еды, не на тяжелой работе…