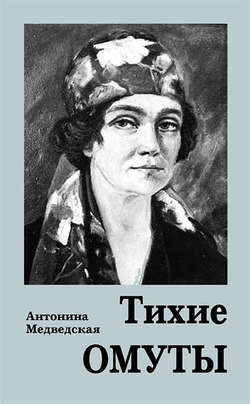Читать книгу Тихие омуты - Антонина Медведская - Страница 5
Часть I
Бабаедовский рай
2
ОглавлениеНо Бог решил его судьбу иначе: племянница пана Баранского, дурочка Эвелина, разыскала садовника у березовой рощицы. Он лежал на копне опавших листьев, смотрел в синь небесную и мысленно звал свою шальную любовь Юленьку. И тут как издевка, как карканье вороны – грубоватый голос Эвелины:
– Пан Шунейка! Дядя вас клича до покоев. Приехал с гуты его знакомый, стеклянные цацки привез, – и она ускакала со своей песней, подаренной ей неласковой судьбой:
Хочу – скачу,
Хочу – не-е,
Горелица у кишине.
Прохудился кишинек,
Потерялся кошелек.
Садовник сполз по увядающим листьям на землю, оставив грабли на копне, и медленно побрел к покоям Баранского. Впереди дикой козой скакала Эвелина, продолжая петь. Наступала грустная пора, «очей очарованье». Но садовника уже ничто не могло очаровать. Он шел в покои пана Баранского и соображал: «Зачем позвал? И зачем мне какие-то стекляшки-цацки?» Но когда он увидел расставленные на полированной поверхности длинного обеденного стола эти «цацки», у него по спине пробежал холодок. Лебединые стаи, брачные танцы журавлей, тройка лошадей, летящая над заиндевелыми берегами. А петухи-то, петухи – один другого краше, но какие драчуны!
Садовник молча рассматривал все это диво дивное, затем протянул руку и выудил коня. Вздыбленный гривастый красавец стоял на самой вершине ледяной скалы. Внизу – пропасть, позади – волчья стая. Как же был красив этот золотистый конь с темно-медными гривой и хвостом! «Такого коня не должны сожрать волки. Гордый, красивый конь в последний раз втянет ноздрями глоток ветра и в последний раз совершит прыжок со скалы в пропасть, в небытие», – так подумал о судьбе чудо-гнедого садовник.
– Если продаете, я куплю его.
– Покупайте. Я и привез эти диковинки для продажи и обмена на продукты. Вот пан Баранский мне и поможет. Устроит веселые торги. Мы с ним давние знакомые по этаким делам.
– А кто сотворил этого коня?
– Коня? Того мастера уже три года, как похоронили. Воспаление легких. У стеклодувов легкие ослаблены, они же все время дуют в железные трубки, вырабатывают банки, стаканы, стопки, аптечную мелочь. А уж что говорить о хрустальщиках – фокусники, колдуны. Вот и коня смастерил Трофим Курсаков. Эти «цацки» он называл баловством. Серьезный мастер был. Его хрустальные вазы и теперь украшают салоны богатых иностранцев. Жить бы да жить, а он лег в землю, оставил двадцатидвухлетнюю вдову. Четвертого сына родила уже после смерти мужа. Вот и бьется, бедняжка. Старшую девочку забрала бабушка в Сызрань, трое – при ней. А какая красавица, косы ниже пояса. А лицо – глаз не отвести. Если б мне не под шестьдесят, а хотя бы на двадцатку поменьше, на коленях бы при всем честном народе руки ее золотой попросил бы и клятву бы дал растить детей ее, как своих родных. А только… Не раскрывай роток – не твой глоток. Она принесла этого коня, когда я уже отъезжал: «Продай этого коня, душу он мою замучил. Когда мой принес его с гуты, говорит: «Анютка! Этот конь – я!» Продай ты его, хоть что-нибудь куплю, порадую детей». А знаешь что, садовник, – Тимофей Иванович воровато оглянулся, – бросай ты этого жирного борова Баранского и поедем со мной в поселок к рабочим. Ты бы их научил сады сажать, им там плохо без фруктов. Вот бы доброе дело сотворил. Ты только командуй, учи, да саженцев раздобудь. А то из своих запасов у Баранского захвати для начала. Я ж с фургоном, увезем. И скарб твой прихватим. Подумай, какое божеское дело сотворишь. Придет человек из ада гуты, распахнет оконце, а за ним яблоньки в цвету, а там и яблочки со сливами, вишнями. Тут тебе и антоновка, и пепенка, и белый налив, и великан апорт – радость-то какая, благодать безмерная для людей с опаленными легкими.
– А сколько времени понадобится, чтоб стать мастером-хрустальщиком?
– Вся жизнь понадобится. Вот Трофим Анюткин мечтал сотворить царь-вазу, всю увитую лилиями – не успел…
Тимофей Иванович закурил. Во дворе Эвелина ловила кур, щупала, и которая с яйцом, закидывала в сараюшку с сеном, чтоб не неслись где попало. Баранский уехал на бричке с визитами к соседям, повариха Евдокия, дородная баба с отвислым жирным подбородком, и две приглашенные помощницы орудовали на кухне – пекли, жарили, парили, варили, распространяя вожделенные запахи по всему поместью Баранского. Сегодня вечером пан Баранский устраивает веселый аукцион, будут продаваться стеклянные цацки по цене – кто больше. Торги всегда шли с шутками, прибаутками, иной раз такими, что впору уши затыкать, но поскольку компания была только мужская, то уши никто не затыкал, а за каждую похабщину штрафовали – заставляли осушить кварту медовухи. Стол ломился от обилия разных пирогов: разваляев с рыбой, мясом, грибами, капустой, горохом. Блюда с запеченными в тесте окорочками, а уж сладких пирогов – не счесть. Евдокия не уступала в поварском деле никаким городским шеф-поварам. Иной раз подвыпивший Баранский говорил поварихе:
– Кабы ты, Евдокия, была бы не такая мясистая, я бы тебя в спальню пригласил.
– Так пригласи, пан. Попробуем, может, сладится…
– Не-е, не сладится. Я как гляну на твой подбородок, ну, чисто жирный налим, так сразу ж пас, пшик. Царствуй на кухне, а в спальню тебе хода нет.
Евдокия не обижалась на панову откровенность. «Подумаешь, евнух вяленый. На кой пим мне твоя спальня, твой конюх, Конек-горбунок – вот ето мужик. И слова его праведные: «Ты, Дуняшка, царь-баба. Слаще тебя я не знал. Есть где согрешить с холода-мороза». А то – тьфу, спальня пузача усатого».
Застолье с торгами заканчивалось, когда светало. Гости разъезжались хмельные, усталые, но довольные. Отвели душеньки свои, попили-поели вволюшку. Позубоскалили до одури. И увозят своим женам и дочерям диковинные подарки. Баранский свалился на веранде, распластавшись на широкой софе, и через минуту задавал такого храпака, что его два длинных уса подскакивали кузнечиками, на влажные губы то и дело присаживались по очереди две запоздалые мухи – осень, а им все нет покоя.
Садовник выкопал около сотни саженцев-годовичков, несколько корешков флоксов, своих любимых цветов, сложил в сумку пакеты семян астр, хризантем, кое-какие садовые инструменты и еще кое-что по мелочи, что могло пригодиться там, где не было не только плодовых деревцев, но и цветов под окнами, за исключением чахлых кустиков сирени да желтых «лисьих хвостиков», кое-где уцелевших. Фургон загрузили до предела. Евдокия вынесла две плетенки из лозы, наполненные яствами со стола, да еще и по доброму куску соленого сала с чесноком и тмином.
– Вот вам по корзине на дорожку. Путь не близкий.
– Спасибо тебе, Дуня, добрая душа, – поклонился Тимофей Иванович. А садовник обнял ее, как родную.
– Без вас, тетя Дуня, туго мне придется. Кто мне таких вкусных драников со шкварками принесет, вареников с вишнями.
Евдокия заплакала, повернулась спиной и, втянув голову в широкие плечи, пошла в покои порядок наводить, на помощниц покрикивать. Со стороны отхожего места послышался громкий осуждающий голос Эвелины:
– Ну, паны, ну, каркадилы, понагадили хуже свиней перед забоем, не продохнуть от говна, чтоб на них трасца с хворобой, – она лила из ведра воду и орудовала метлой, – мамочка родная, хочу – скачу, хочу – не-е, горелица у кишине…
– Эвелина! – позвал садовник, – поди сюда.
Когда та подбежала, сказал:
– Хорошо вытри мокрые руки передником. Теперь протяни ладошку. – Он опустил на эту неухоженную лапку дешевые брошку и сережки с красными камешками, а сверху прикрыл украшения серебряным рублем. – На рубль купи себе красивого ситца. Евдокия сошьет тебе сарафан. Этот подарок тебе, Эвелина, что нет у тебя в жизни никакой радости. Порадуйся хоть этому гостинцу.
Эвелина долго смотрит на садовника, глаза ее наливаются слезами, она падает на колени и неистово крестится:
– Мамочка родная! Хочу – скачу, хочу – не-е… – и вдруг заплакала громко, как плачут бабы на похоронах.
– Поехали, Тимофей Иванович. Ну за что природа наказала это существо, обделила разумом.
– На то Божья воля, мы тут бессильны. Ты ружьишко далеко не прячь, держи под руками.
– А что, мужики пошаливают?
– За всех нельзя ручаться. Дорога длинная, две ночи да два дня в пути.