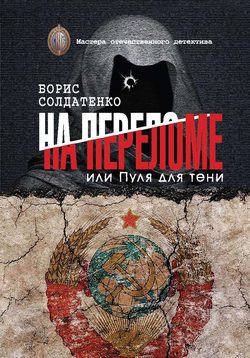Читать книгу На переломе, или Пуля для тени - Борис Солдатенко - Страница 2
Предисловие
ОглавлениеЭта книга об одном из эпизодов самого трудного для страны периода – годах безвременья, когда великую некогда страну – Советский Союз – убивали вовсе не иностранные армии, а свои же соотечественники: вчерашние «товарищи по партии», бывшие одноклассники, знакомые…
Помню, именно тогда – в середине 90-х – случайно встретил на вокзале своего одноклассника Егора Ивановского. Вчерашний отважный «гардемарин» – выпускник среднего мореходного училища, внезапно избравший для себя судьбу «барыги-барахольщика», он уже больше не бредил как раньше безбрежным океаном и морскими походами, и за первую «пятилетку» постсоветской жизни, как он сказал достаточно неплохо «финансово поднялся». Вместе с бандитами в самом начале 92-го, он так сказать, «приватизировал» часть небольшого порта где-то на Дальнем Востоке, взял в аренду небольшие корабли, и стал президентом – созданной им же морской компании. Не позабыв наемными рабочими взять к себе профессионалов – своих вчерашних руководителей и сослуживцев.
Узнав, что я еще служу в армии, он несколько удивился, заявив, что сейчас, «горбатиться на дядю» просто глупо. Особенно, когда есть мозги и высшее образование.
– Старик, ты не рубишь фишку, – полужаргонным языком объяснял он мне смысл жизни. – Сейчас мы живем в то время, когда нам разрешили открыто воровать. Всем без исключения – и министрам и рабочим.
– Вот ты даже не понимаешь, что можно прибрать у вас в армии к рукам? – улыбался он. – А у вас ведь барахла полным полно. И оно никому не нужно, в умершей стране. Как, к слову, и вы сами, со своею присягой разворованному государству? От кого вы теперь хотите защищаться? Если даже твой верховный главнокомандующий Боря Ельцин сам ест с руки американцев…
Ему, видимо, доставляло удовольствие поучать меня. Мы не виделись прочти пятнадцать лет, но школьное «сарафанное радио» уже давно рассказало, кто и чего добился в этой жизни.
Я знал, что Егор Ивановский, учившийся вместе со мною восемь лет в школе, хотел быть офицером, но продолжил учебу в мореходке. И, видимо от этого, больше чем кто-либо иной интересовался моей службой.
– Ты же не глупый мужик, вот уже старший офицер, – продолжал Егор свой монолог, хотя и понимал, что мне это не нравится. – Сам подумай, вместо того, чтобы питаться ныне остатками с «барского стола» нашего государства, сам бы что-то придумал…, а если не можешь придумать, то – возглавь… А то я слышал ты только жизнью научился рисковать. Успел даже послужить на всех «воюющих» территориях нашей бывшей страны в составе миротворцев… За что рискуешь? За оловянный кругляшок медали? Такие медали, особенно смотрятся лишь со стороны – на похоронных подушечках…
А вот это он сказал – зря! Я вспомнил своих погибших однокурсников, с которыми учился в суворовском, высшем училище, с кем вместе служил, и, каюсь, не сдержался… Дал в морду. А потом повернулся и, навсегда вычеркнув его из своей жизни, ушел…
Тогда в запале, даже и не задумался обо всех сказанных им словах. Будучи офицером уже в третьем поколении, я был уверен, что нужен своему государству. Думал, что, как мои дед, отец и старший брат принесу пользу своему Отечеству. И вот, невольно, вспомнил тот случайный разговор на вокзальной площади спустя некоторое время.
В бытность СССР, как сейчас говорят – «в тренде», был модный лозунг, что «Армия – это слепок с государства». Но хорошо, когда все хорошо. А, если чем- то больно государство, то этим же должна быть больна и ее армия.
В начале 90-х годов, побывав, как офицер и как журналист, в многочисленных служебных командировках в различных военных гарнизонах и округах, я отчетливо увидел эту «болезнь». Стал невольным свидетелем того, как между нашими вчерашними офицерами единой Советской армии в эти непростые времена появилась, и прошла через каждую нашу душу, если так можно сказать, линия разлома.
Несмотря на те, очень трудные страшные и голодные годы, времена безденежья, многие офицеры продолжали оставаться в строю, и, ежедневно рискуя жизнью, охраняли страну. Конечно же, были среди честных и грамотных офицеров и те, кто после развала СССР ушел в бизнес, создал честно свое дело с нуля.
Были и те, кто оказался по тем или иным причинам слаб перед новыми обстоятельствами, кто, видимо, пришел в армию не по вере и убеждению, а, видимо, только ради материальных льгот. Ведь именно ими, во времена брежневской стабильности, щедро обеспечивала страна своих защитников.
Находились и такие, кто, быстро воспользовавшись ситуацией, уволился еще в первые годы «безумной демократии», находясь в поиске не заработка, а «легких денег». Справедливо решив, что в армии сейчас трудные времена и платят «копейки», а на гражданке в «мутной воде» смутного времени легче заработать длинный рубль. Шли в инкассаторы, охранники, и, конечно же, в бандиты.
Последними покидали офицерские ряды, увольняясь в запас или отставку в конце 90- х, те, кто в связи с уходом с поста Президента РФ Бориса Ельцина ясно ощутил в армейском строю завершение эпохи «смутного времени». Отлично понимая, что больше им у власти продержаться будет очень нелегко. Уходили те немногие, кто все же в эти десять лет сумел стать «бизнесменом в погонах», и пытался до последних минут «урвать» у государства всю прибыль от имеющейся должности. Одним словом, те, кто все эти годы, пытался совмещать несовместимое – службу с …собственной выгодой.
Хотя, сказать, что все они ушли трудно. Может кто- то из них еще и остался в армейском строю…
О таких «новых русских офицерах», язык не поворачивается сказать – сослуживцах, вам могут рассказать не только их бывшие подчиненные, исправно тянувшие в те годы за себя и за них офицерскую лямку. Этот новый вид, так называемых «армейских коммерсантов» лучше всего помнят заведенные на них многочисленные уголовные дела, пережившие все тяготы и лишения. Но, увы, львиная доля которых, к большому сожалению, рассыпалась, так и не дойдя до суда.
К слову, в те «мутные» годы последнего десятилетия прошлого века, таких военных гарнизонов с подобными «бизнес- командирами» было немало. При попустительстве офицеров самого высокого звена, этими «нуворишами» в погонах распродавалось практически все, чем только располагала их воинская часть. Техника, запчасти, топливо – все выставлялось на торг, а порою, солдаты срочной службы, сдавались в аренду в качестве безропотной рабочей силы. Наиболее оживленная торговля всем этим шла не только в отдаленных гарнизонах, но и здесь в нескольких сотнях километрах от Москвы.
Были и те, кто на многочисленных заброшенных оружейных складах стал выставлять на «закрытую распродажу» имеющееся там оружие и боеприпасы, порою продавая их бандитам и националистам. При этом отлично понимая, что эти автоматы и пистолеты могут скоро «заговорить», и в многочисленных «горячих точках» будут стрелять именно в наших солдат и офицеров.
Но деньги затмевали таким нечестным офицерам – «бизнесменам» разум. Поэтому, пытаясь скрыть преступления, дельцы в погонах часто прикрывали пропажу …«внезапным пожаром» или же «нападением на часового».
К большому сожалению, списать в середине 90-х на неизвестных преступников гибель часового солдата на посту у склада с оружием было проще и безопаснее. И, намного проще, чем объяснять потом военной прокуратуре или военной контрразведке, куда внезапно пропали сотни автоматов.
Зеленые денежные купюры, с ликом заокеанских президентов, в то время обычно помогали успешно закрыть не одно подобное уголовное дело. А цинковый гроб ставил окончательную точку в этой таинственной истории о внезапной гибели часового. Родителям же доставался лишь официальный документ, в котором зачастую указывалась причиной смерти – вовсе не убийство, а внезапная «сердечная недостаточность»…
Есть все основания полагать, что эту «Новую армейскую Чуму», точнее – этот «Вирус вседозволенности», скорее всего, занесли в армейский строй наши офицеры, проходившие в «перестроечные» годы службу за границей – в Группах советских войск в Европе. Возможно, что именно там – впервые в армии – и появились эти новые «чисто военные коррупционные схемы».
Ходили слухи, что там, далеко, за рубежами Отечества – за назначение на должность, получение очередного воинского звания, за перевод в другую Группу войск или же за возвращение в столичный военный округ – с офицера требовали обязательно …«позолотить руку» кадровику или вышестоящему командиру. А в зависимости от того, выбираешь ли ты себе хорошее «теплое» место службы в большом городе, или просто пытаешься выбить небольшое уютное «неубитое» жилье для семьи в заштатном гарнизоне, в Группах войск существовал свой негласный «прейскурант», цены в котором колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч иностранных рублей.
Нечто похожее позже использовалось и для решения проблем с должностью или с жильем, гораздо позже, уже в самом Союзе. Здесь пока еще боялись вездесущего КГБ, так что от офицеров требовалась зачастую не сама валюта, а уже ее материальная производная – импортная мебель, дефицитная одежда, или, порою даже мечта любого советского офицера – автомобиль «Волга-24».
Следует ли говорить, что после распада СССР, волна этих «новых русских офицеров» из Групп войск растеклась по всей нашей необъятной стране. Поражая «этими новыми коррупционными схемами», словно коррозия металл, весь новый центральный аппарат Минобороны и военные округа. Схемами, которые, какой-то армейский острослов, назвал по-горбачевски «Новым денежным мЫшлением», делая ударение исключительно на первом слоге последнего слова.
Дольше других держали оборону от коррупции и серых схем настоящие древние столпы армии – военные гарнизоны страны. Но, новому либеральному российскому руководству, смотрящему исключительно за океан, видимо, не нужны были больше настоящие защитники Родины. Воспользовавшись лозунгом о сокращении армии, большинство руководителей армейских подразделений, имевших свое мнение, ушли в отставку сами, или были почти в приказном порядке отправлены на …заслуженный отдых. А на их места назначались уже «свои», нужные офицеры.
Кто-то из подчиненных, спокойно принимал это как должное, отлично осознавая, что командование части не выбирают. Другие, как я уже говорил, уходили в бизнес, или увольнялись вместе с командирами в знак протеста, не желая служить под «новыми русскими офицерами»…
Справедливости ради, следует сказать, что новорожденная российская армия все же пыталась делать слабые попытки самостоятельно избавиться от коррупционеров в своих рядах. Но можно ли было бороться со своим командованием?
Видимо, в этот трудный для страны период, нашим офицерам все же предстояло переболеть этим «коррупционным вирусом». Выстоять или умереть. И они выстояли. «Продажные» ушли, и они освободили свои места для тех, чтобы сегодня гордиться своими офицерами и генералами, которые в новом веке помогли стать Российской армии одной из самых мощных в мире.
Конечно же, я не говорю об отдельных исключениях, как сообщалось во многих СМИ, типа озабоченного только собственным обогащением «нувориша» Сердюкова. Это наш позор, но, уверен, это скорее исключение из правила…