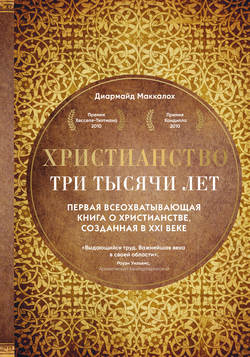Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 135
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)
6. Церковь империи (300–451)
Константин и бог войны
Архитектурный стиль христианской империи
ОглавлениеВ качестве модели церковные архитекторы выбрали приемную во дворце светского правителя, по этой ассоциации названную базиликой (царской). Как правило, это был прямоугольный зал, достаточно большой, чтобы вместить многочисленных прихожан; войдя в двери в одной из длинных стен, посетитель оказывался перед троном правителя или местного магистрата, нередко частично скрытым от глаз полукруглой апсидой. Интересно, что в привычную форму базилики христиане внесли два серьезных изменения. Один из их древнейших примеров мы и по сей день видим в римской церкви Святого Константина, ныне – Святого Иоанна Латеранского; ярко представлены они и в чуть более поздней паре равенских базилик, посвященных святому Аполлинарию; всего же таких церквей не счесть. Единообразный архитектурный план применялся по всей империи и даже за ее пределами – например, в ранних эфиопских церквах. Первое христианское нововведение состояло в том, чтобы везде, где только возможно, «ориентировать» церкви, т. е. располагать их длинные стены с запада на восток так, чтобы апсида с евхаристическим престолом, или алтарем, и креслом епископа за ним располагалась в восточной части здания. В Библии мы встречаем множество указаний, предлагающих верующим ориентироваться на восток: от восточного входа в Эдемский сад, ведущего к древу жизни (Быт 3:24), до ангела из Откр 7:2, который восходит от востока и открывает безопасный путь избранным; однако едва ли все они, вместе взятые, привели бы к такому архитектурному решению, если бы не тот простой факт, что солнце встает на востоке – из века в век и совершенно независимо от Библии. Во-вторых, вход в христианскую базилику располагался не в длинной стене, а в короткой, западной, напротив апсиды. Верующие входили в храм – и взоры их мгновенно обращались к важнейшей его части: епископскому престолу и алтарю, возможно, хранящему в себе останки какого-либо прославленного мученика.
Смысл перепланировки был в том, чтобы превратить базилику в путь к самому важному и святому в жизни христианина – к чистому богопочитанию. Именно от IV века впервые доходит до нас значительное количество сохранившихся христианских церквей – и к этому же времени относятся первые более или менее полные и подробные описания богослужений, на которые прихожане взирали, словно зрители в театре. Несмотря на все усилия литургистов, нам трудно понять или представить себе, на что было похоже христианское богослужение до Константина: во всем христианском мире с того времени сохранилась, быть может, лишь одна литургия – Сирийской церкви (см. с. 207). В своем сжатом, но блестящем исследовании литургист XX века Р. П. К. Хэнсон показал, что до конца III века епископы в целом были свободны импровизировать рассказы о ключевых темах и формулы, казавшиеся им наиболее подходящими для великой драмы Евхаристии. В конце концов они ведь были церковными учителями, что и показывает их престол-кафедра, и в выборе слов для богослужения естественно было им довериться. В IV веке ситуация изменилась: литургия, как и здания, в которых она совершалась, стала более формальной и структурированной. Начиная с этого времени тьма рассеивается: архитектура и рукописи вместе проливают потоки света на суть и сердцевину христианского религиозного опыта.[392]
392
R.P.C.Hanson, “The Liberty of the Bishop to Improvise Prayer in the Eucharist”, Vigiliae Christianae, 15 (1961), 173–176. Очень полезный очерк того, что мы знаем о литургии, см. в: B.Spinks, “The Growth of Liturgy and the Church Year”, in A.Casiday and F.W.Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity II: Constantine to c. 600 (Cambridge, 2007), 601–617.