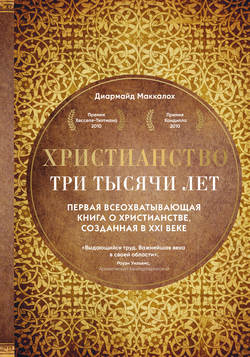Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 139
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)
6. Церковь империи (300–451)
Возникновение монашества
«Молчаливое восстание»
ОглавлениеДуховный писатель А. М. Олчин называет один из эпизодов истории монашества молчаливым восстанием: думается, это определение можно применить и к монашеству в целом.[394] В христианском монашестве как таковом содержится имплицитная критика решения церкви стать массовой организацией, «Церковью для всех и каждого». В свои ранние годы христианская церковь была маленькой замкнутой общиной; ей легко было сохранять свой характер элиты, состоящей из духовных борцов, проповедующих скорое второе пришествие Господа. Позднее эту тенденцию поддержал гностический импульс в христианстве, подталкивающий христиан в сторону самоотречения и воздержания, популярных и в тогдашней нехристианской философии. Однако это положение все труднее становилось сохранять по мере того, как церковные общины росли и привлекали к себе самых разных людей; даже длительное наставление и подготовка к крещению и вступлению в общину, ставшие обязательными и для новообращенных, и для детей из христианских семей, не могли решить проблему. Уже в начале II века в Риме об этом шли жестокие споры: суровый священник Ипполит (см. с. 196) яростно нападал на своего епископа Каллиста за то, что тот не отлучал от церкви христиан, впавших в серьезные грехи, а лишь налагал на них епитимью – такой образ действий Ипполит считал потворством греху.[395] В основе этой ссоры, результатом которой стало сильное ухудшение отношений Ипполита с епископской церковью, лежали разные представления о том, чем должна быть Церковь Христова: собранием святых, поименно избранных Богом для спасения, или же смешанным собранием святых и грешников. Та же проблема стоит за расколами новациан, мелитиан и донатистов в III и IV столетиях (см. с. 197–198 и 231–233); особой остроты она достигла, когда после Константинова переворота большинство христиан лишилось возможности «гарантированно» заслужить себе спасение мученической смертью.
Непримиримые ригористы от Ипполита до Доната снова и снова проигрывали спор и превращались в маргиналов – и это вполне естественно, ибо с самого своего рождения (или, по крайней мере, с первых лет, описанных в Книге Деяний) Церковь обладала поистине ненасытным аппетитом на новообращенных. Если бы пуристам удалось навязать церкви свои жесткие моральные стандарты – в ней попросту никого бы не осталось. Но было ли какое-то решение, кроме раскола, для тех, кто хотел большего? Желание отделиться, не прерывая религиозного общения с основной массой христиан, различимо уже в III веке, еще до Константинова обращения, многих христиан заставшего врасплох. Нелегкие отношения между монашеством и общедоступной церковью объясняются отчасти и происхождением монашества из тех же краев, что и гностицизм: с восточных и южных границ Римской империи, из Египта и Сирии. Более того: основание первых монашеских общин относится к тому же периоду, что и появление у христианства нового соперника, манихейства, с его презрением к материальному и телесному. Знаменитые аскетические подвиги христианских монахов (см. с. 229–232), быть может, представляли собой повторение подобных же духовных подвигов индуистских святых, посредством манихейства перенесенных на Запад, в христианский мир.
394
Название его книги: «Молчаливое восстание: англиканские религиозные общины 1845–1900 годов» (London, 1958).
395
Stevenson (ed., 1987), 146–153.