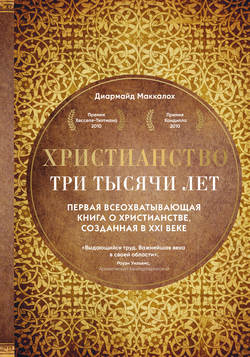Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 136
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)
6. Церковь империи (300–451)
Константин и бог войны
Символика праздников и служб церковного года
ОглавлениеВооруженные этим набором знаний, мы можем войти в базилику и устремить взор на восток, на престол смерти и воскресения Господня. Мы вспомним замученного слугу Христова, чьи останки покоятся в этом алтаре: своей мученической кончиной он (или она) гарантированно заслужил себе место на Небесах, поблизости от Господа. На праздничных службах церковного года мы увидим и живое воплощение Бога на земле: епископа в своем кресле и клир по обе стороны от него. Это – образ Царства Небесного; а от царского двора в те времена, разумеется, ожидали пышности. Именно в эту эпоху клирики начали одеваться так, чтобы подчеркнуть свой высокий статус слуг Царя Небесного. Ризы, фелони, митры, орари, опахала, кадила – весь этот торжественный реквизит, любимый церковью как на Востоке, так и на Западе, заимствован из повседневных ритуалов царских и императорских дворцов. В самом деле, как можно допустить, чтобы Бога чтили меньше, чем царя?
Итак, Божий пир – Евхаристия – справлялся теперь со всеми ритуалами мирского празднества; однако было в нем нечто, резко отличавшее его от императорских банкетов. Праздничная атмосфера оттенялась воспоминанием о том, что Евхаристия – не что иное, как Тайная вечеря, последний ужин Христа с учениками, за которым последовали страдания и смерть; а за ними – снова радость, когда воскресший Христос встретился со своими учениками за столом в Эммаусе (см. с. 117–118). Крест – всем уже знакомый символ Иерусалима, распятия и воскресения – всегда оставался рядом с изображениями Христа-Царя, сурово и властно взирающего на молящихся из-под купола храма. Как и на императорских пирах, некоторые из пришедших не получали разрешения войти и оставались за дверью. Те, кто не исполнил все требования, необходимые для крещения, или проходил предварительное обучение («катехизис»), именовались катехуменами – оглашенными. Перед началом Евхаристии они покидали церковь и толпились у входа; впоследствии для оглашенных стали отводить отдельное помещение на западной стороне храма.
Подготовка к великим праздникам для всех христиан занимала все больше времени и становилась все сложнее – в полном соответствии с усложнением самих праздничных обрядов. С первых лет христианства дни тревоги и скорби, предшествовавшие Воскресению, отмечались воздержанием от пищи и сна. По естественной ассоциации этот пост начали связывать с сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне, перед началом его активного общественного служения. Дни перед Пасхой – самое подходящее время литургического года для того, чтобы оглашенные завершили свои последние приготовления и в радостный пасхальный день триумфально присоединились к Церкви. Этот сорокадневный период, впервые упомянутый (прямо скажем, мимоходом) в канонах Никейского собора, ныне именуется у нас Великим постом.[393] Рождество Христово и поклонение Христу астрологов-неиудеев (так называемое Богоявление) в последующие столетия также стали предваряться вводным периодом поста и воздержания; этот пост у верующих получил название Рождественского. После сорокадневного воздержания эти праздники, приходящиеся на самое темное и мрачное время года, становятся еще светлее и радостнее.
393
Об уходе Христа в пустыню см.: Мф 4:1–11, Мк 1:12–13, Лк 4:1–13. О Никейском соборе см.: Stevenson (ed., 1987), 339–340 (Canon 5).