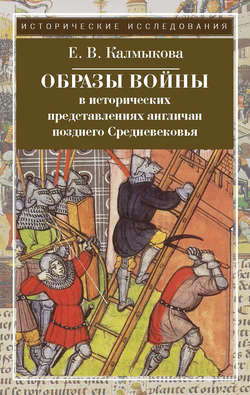Читать книгу Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья - Е. В. Калмыкова - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Англия в борьбе за «справедливость»
Глава 2
Представления английских хронистов о роли Божественного провидения в войне
Святые покровители Англии и политика английских королей в годы Столетней войны
ОглавлениеВ представлении английских хронистов война за «справедливое дело» встречает одобрение и поддержку со стороны не только самого Бога, но и его святых. Источники сохранили достаточно подробную информацию о том, как английские монархи эпохи Столетней войны поощряли почитание старых покровителей английской короны и стимулировали утверждение и укрепление новых культов. В определенной мере этот процесс отразился и в английской исторической литературе. Не намереваясь подробно останавливаться на проблемах почитания святых в Англии XIV–XV вв., тем не менее кратко рассмотрю наиболее показательные изменения, произошедшие в культах святых благодаря Столетней войне. Эти перемены коснулись трансформации культа св. Георгия, форсированного распространения в Англии культа св. Бригитты, а также попыток Генриха V и герцога Бедфорда «примирить» Англию с культом св. Дионисия (Сен-Дени) – традиционного покровителя Франции.
Св. Георгий – один из самых почитаемых раннехристианских мучеников. Достоверно о нем практически ничего не известно. «Венский палимпсест» (V в.) называет его уроженцем Каппадокии (Малая Азия), более поздние жития приписывают ему благородное происхождение. По общепринятой версии, св. Георгий служил в римской армии и в 303 г. нашей эры был обезглавлен по приказу императора Диоклетиана за то, что выступал против гонения христиан. Св. Георгий традиционно считался покровителем воинов, поэтому неудивительно, что затяжные военные конфликты способствовали дальнейшему росту популярности и без того весьма почитаемого мученика. Еще в 1222 г. Оксфордский синод постановил отмечать День св. Георгия в качестве праздника по всей стране. Молитвы св. Георгию перед сражениями, а также разворачивание его знамени (алый крест на белом поле) наряду с хоругвями святых, традиционно покровительствовавших английской короне, Эдмунда Мученика и Эдуарда Исповедника, и изображение герба св. Георгия (взятого со знамени) на плащах королевских солдат практиковались еще в период правления Эдуарда I. Однако в ту эпоху св. Георгий воспринимался лишь как покровитель всех воинов. В 1336 г. во время подготовки к крестовому походу более двухсот крупных сеньоров Франции обязались носить алый крест на своем одеянии.[427] В данном случае выбор цвета креста восходит еще к событиям Третьего крестового похода (1188–1190 гг.), когда была достигнута договоренность о том, что люди английского короля должны в качестве знака отличия носить белые кресты, воины французского короля – красные, а бойцы графа Фландрского – зеленые.[428] Но уже с середины XIV в. алый крест св. Георгия будет строго свидетельствовать о принадлежности к английскому войску.
В XIV в. принципиально меняется сам характер войн, которые ведет английская корона, точнее, отношение к ним в обществе. В первую очередь это изменение касается французского и шотландского театра военных действий. В отличие от кампаний предыдущего периода начиная с XIV в. войны во Франции и Шотландии перестают восприниматься как исключительно монаршее дело, постепенно превращаясь в дело государственное, с которым тесно связано и от которого во многом зависит общее благо английского народа. Именно в этой связи образ св. Георгия постепенно трансформируется из покровителя воинов в покровителя Англии и англичан.[429]
В 1344 г. Эдуард III провозгласил св. Георгия покровителем Англии. Три года спустя король избрал его небесным патроном рыцарского ордена Подвязки. Утверждение св. Георгия в качестве покровителя именно английского воинства и королевства в целом продолжалось на протяжении всей Столетней войны. В 1399 г. духовенство преподнесло королю петицию о том, что «день св. Георгия Мученика, который является духовным патроном английского воинства, должен соблюдаться по всей Англии как праздник».[430] Повторная петиция была подана Генриху IV вскоре после его восшествия на престол.[431] Во время первой континентальной кампании Генриха V знамя св. Георгия водружалось вместе с королевскими штандартами над воротами взятых англичанами городов и крепостей.[432] В отличие от львов и лилий – новых символов английской короны – алый крест в белом поле являлся олицетворением всего английского народа. В статутах военного времени Генрих V особо подчеркивал, что св. Георгий является покровителем именно англичан, запрещая под страхом смерти своим воинам отказываться от ношения его символов.[433] Как уже упоминалось выше, многие хронисты и поэты свидетельствуют в своих сочинениях, что святой поддержал английское воинство в битве при Азенкуре. 4 января 1416 г. архиепископ Кентерберийский отметил исключительность праздника св. Георгия, «который является особым патроном и защитником английского народа».[434] О том, что Генрих V поклялся превратить День св. Георгия в общеанглийский праздник, сообщает один из продолжателей хроники «Брут».[435] Именно в правление Генриха V св. Георгий окончательно стал национальным святым, олицетворяющим силу и мощь английского народа. С этого периода изображения св. Георгия начинают размещаться на памятниках, предназначенных для репрезентации Англии на международном уровне: официальных грамотах, монетах, ювелирных украшениях, предназначаемых для дипломатических подарков, и т. д.[436] В XIV–XV вв. почитание св. Георгия не только превосходит культы древних английских святых, но даже порой затмевает поклонение апостолам и Богородице. Так, например, Джон Хардинг, ссылаясь на Ненния, утверждал, что щит самого короля Артура был украшен алым крестом св. Георгия.[437] Хотя в оригинале сообщалось, что на щите Артура находилось изображение Девы Марии.[438] Впрочем, в этот период св. Георгий довольно часто изображается рядом с Девой. Более того, покровителя воинов нередко именуют рыцарем или защитником Марии.[439]
Пожалуй, в наибольшей мере история Столетней войны и, соответственно, репрезентации различных ее аспектов в хронистике сказалась на распространении в Англии культа канонизированной в 1391 г. шведской святой Бригитты.[440] Бригитта происходила из знатной шведской семьи и благодаря прекрасному образованию была приближена к королевскому двору, где обучала шведскому языку жену короля, Бланку Намюрскую. В зрелом возрасте, когда она была уже замужем и родила нескольких детей, ее начали посещать откровения, сопровождавшиеся различными видениями. После рождения у королевской четы первенца она сочла свою миссию выполненной и захотела отправиться вместе с мужем в паломничество, раздав собственных семерых детей в монастыри. После продолжительной болезни муж Бригитты умер, после чего она стала вести уединенный образ жизни. В это время она получила главное откровение: Христос провозгласил ее своей невестой и пообещал ей, что на нее снизойдет Святой Дух и останется с ней до самой смерти. Вдохновленная этим откровением, Бригитта основала новый монастырь в Вадстене (в бывшем королевском поместье), в котором вместе жили как мужчины, так и женщины, что было совершенно новым явлением в Швеции, став его аббатисой. В сентябре 1349 г. к ней снова явился Христос и велел отправиться в Рим, чтобы там ждать возвращения папы из Авиньона. В Риме Бригитта жила в доме кардинала Гуго Роже де Бофора, брата папы Климента VI. Там ее продолжали посещать откровения, которые она записывала по-шведски, а потом правила латинский перевод, сделанный ее секретарем и исповедником Петером Ольссоном. В 1372 г. она совершила паломничество в Святую землю. В 1373 г. она умерла в Риме, получив за пять дней до смерти последнее откровение. Останки ее были перезахоронены в Швеции.
В 1348 г. шведский король Магнус послал папе, Эдуарду III и Филиппу VI письма, содержащие краткое изложение ранних откровений Бригитты, в которых признавалась справедливость английских притязаний на французскую корону и предлагался способ мирного урегулирования конфликта.[441] Это откровение было дано Бригитте в 1342 г., когда она вместе со своим мужем находилась в Аррасе. Бригитта видела св. Дионисия, который просил Деву Марию заступиться перед Христом за Францию, послав ей мир и прекратив убийства французов. Отвечая святому покровителю Франции, Дева Мария сказала, что у Эдуарда III больше прав на корону, но, поскольку Филипп VI уже коронован, он должен оставаться королем до своей смерти, признав короля Англии своим приемным сыном и наследником.[442] В окончательном варианте откровений Бригитты, который был создан и, возможно, отредактирован ее помощником и спутником Альфонсом де Яном,[443] Христос предлагал королям Англии и Франции разрешить конфликт посредством династического брака для того, чтобы в будущем у Франции появился законный государь, происходящий из двух королевских домов. Если король Франции (в 1377 г. речь шла о Карле V) не последует этому совету, его ждет жалкая смерть, а его королевство постигнут бесконечные напасти. Если король Англии, «обладающий правом» на это королевство, последует этому совету, то Христос поможет ему. В противном случае он потеряет все, что завоевал.[444] В этой версии тема миротворческого брака доминирует над анализом законности притязаний обоих претендентов на французский престол, «которые именуют себя королями, но являются нарушителями истины».
Сразу после коронации Ричарда II в 1377 г. проект его брака с дочерью Карла V принцессой Екатериной был весьма близок к осуществлению,[445] однако в конце 1380 г. Ричард женился на Анне Богемской, что, впрочем, не уменьшило интереса англичан к откровениям Бригитты. Английский кардинал Адам Истон зарекомендовал себя одним из самых ревностных защитников «откровений св. Бригитты» от нападок скептиков, активно способствуя ее канонизации. Именно он вместе с двумя другими кардиналами входил в комиссию, назначенную Бонифацием IX в июле 1379 г., для вынесения окончательного решения о канонизации.[446]
После того как Ричард II, возмужав, взял власть в свои руки, интерес при английском дворе к откровениям канонизированной в 1391 г. св. Бригитты и изложенным в них проанглийским мирным предложениям по урегулированию конфликта с Францией несколько поутих; это обусловливалось стремлением короля отказаться от притязаний на французский престол и завоевательной политики Эдуарда III. Даже осуществившийся в 1396 г. брак Ричарда с французской принцессой, направленный на укрепление дружеских отношений с французскими королями, не имел никакого отношения к предложениям, содержащимся в тексте пророчества: условия этого брачного договора четко оговаривали, что потомки Ричарда и Изабеллы не будут иметь прав на французский престол.
Низложив в 1399 г. Ричарда II, новый король из династии Ланкастеров декларировал грядущее изменение в английской внешней политике и возобновление войны за французскую корону. При Генрихе IV вновь стало актуальным все, что имело отношение к праву английских королей на Францию. Интерес придворных Генриха к культу шведской святой также подогревался браком дочери короля принцессы Филиппы со шведским королем Эриком Померанским. В ноябре 1406 г. сэр Генрих Фицхью, один из приближенных ко двору Генриха IV, сопровождавший в Швецию свадебный поезд принцессы Филиппы, подписал хартию о предоставлении своего манора Черри-Хинтон (графство Кембридж) для первого английского аббатства св. Бригитты. Фицхью также пригласил в Англию двух монахов из Вадстены (первого монастыря, основанного в Швеции самой Бригиттой), которые проживали на территории его манора с 1408 г. по 1415 г.[447] Сам король Генрих IV не только поощрял планы Фицхью, но также собирался стать покровителем нового ордена. Он отправил папе петицию с просьбой предоставить разрешение основать аббатство св. Бригитты при госпитале св. Леонарда в Йорке. Однако эти замыслы Фицхью и Генриха IV не были осуществлены.[448]
В качестве одного из первых деяний молодого короля Генриха V после его коронации в 1413 г. хронисты называют основание в Сионе, недалеко от Лондона, монастыря, посвященного св. Бригитте.[449] Не исключено, что отраженной во всех хрониках (в том числе в шекспировском «Генрихе V») настойчивостью, с которой английский король добивался руки француз ской принцессы, Генрих или его советники, были обязаны пророчествам св. Бригитты: вере в их истинное содержание, выгодности предлагаемого решения в юридическом плане или же надежде на влияние культа шведской святой в массовом сознании. Показательно, что Томас Окклив, надеявшийся на благосклонность будущего короля, сделал ссылку на пророчество в своем сочинении «О правлении государя», преподнесенном в 1412 г. принцу Генриху. В этом труде Окклив цитирует пророчество и советует принцу прекратить войну, женившись на французской принцессе Екатерине.[450]
Внимание Генриха V к культу св. Бригитты окончательно способствовало тому, что во Франции ее начали воспринимать как покровительницу Англии.[451] Однако смерть Генриха V и утрата почти всех континентальных завоеваний при его сыне помешали дальнейшей популяризации культа св. Бригитты в Англии. Впрочем, на конгрессе в Аррасе (1435 г.) и конференции в Кале (1439 г.) английские послы ссылались на эти пророчества, подтверждая права Генриха VI.[452] Автор «Трактата об управлении государством для короля Генриха VI» цитирует св. Бригитту, советуя королю достичь мира через брак с французской принцессой: «Это не умалит ни чести, ни завоеваний англичан, которые им принадлежат по справедливости».[453] Однако, вероятно из-за неудачного завершения Столетней войны, основанный в 1415 г. Генрихом V в Сионе монастырь св. Бригитты остался единственным посвященным ей английским аббатством.[454]
Третьим святым, история почитания которого в большой мере отражает нюансы представления англичан XIV–XV вв. о взаимоотношениях их страны и ее королей с Богом и его святыми, был традиционный покровитель Франции св. Дионисий. Договор в Труа официально закрепил за английскими королями титул королей Франции. Вместе с этим титулом англичане получили и французскую королевскую символику и святых покровителей Франции. В отличие от св. Бригитты, символизирующей союз двух королевств, св. Дионисий был покровителем именно Франции и патроном французских королей. По французской традиции тело наследника престола и регента королевства Генриха V было сначала отпето в Сен-Дени и только после этого перевезено в Англию. Но и в Вестминстерском аббатстве – традиционной усыпальнице английских королей начиная с Генриха III – статуя святого покровителя Франции была размещена в нише королевского надгробия рядом с изображением св. Георгия. Отношение герцога Бедфорда, главного идеолога пропаганды правления Генриха VI во Франции, к культу этого святого, а также королевская символика на печатях и монетах свидетельствует что короны соединялись, но не сливались. В сознании регента и членов Королевского совета Англия и Франция, у которых был единый король, продолжали существовать отдельно друг от друга. Поэтому в период правления Генриха VI, находящегося, как и предыдущие короли Франции, под особым покровительством св. Дионисия, не предпринималось никаких попыток навязать культ этого святого жителям Англии. Отчасти это свидетельствует и о том, что английское общество само отнюдь не стремилось до конца отождествиться с народом побежденных.
Однако во Франции английская знать выказывала культу св. Дионисия определенное уважение и стремилась использовать его для демонстрации того, что война уже закончена. 10 сентября 1422 г., в годовщину убийства Жана Бесстрашного, герцога Бургундского, Бедфорд преподнес капитулу собора Парижской Богоматери образ Троицы, на котором под распятием позади Генриха V стоял св. Георгий, а за спиной принцессы Екатерины – св. Дионисий.[455] Сразу после провозглашения Генриха VI королем Франции св. Дионисий стал символом, репрезентирующим французский компонент двойной монархии. Для анонимного парижанина неудачные попытки арманьяков взять Париж в День св. Дионисия в 1433 г. свидетельствуют о том, что святой защищает город.[456] Уделять внимание культу этого святого начал еще Генрих V, трижды посетивший монастырь Сен-Дени в период с 1420 г. по 1422 г. Напомню, что тело Генриха, как регента и наследника Франции, в течение суток отпевалось в этой усыпальнице французских королей.[457] Для того чтобы монахи этого монастыря не забыли поминать его в своих молитвах, Генрих V завещал Сен-Дени комплект праздничных красных одеяний и позолоченный серебряный крест.[458] А единственным светским лицом, сопровождавшим Карла VI к месту его погребения в Сен-Дени, был герцог Бедфорд. В 1423 г. и в 1424 г. в день поминовения этого признанного англичанами законным короля Франции Бедфорд от имени своего венценосного племянника делал монастырю богатые подарки.[459] Со смертью Бедфорда и потерей Парижа культ св. Дионисия перестал поддерживаться англичанами.
Следует отметить, что английские хронисты и поэты уделяли в своих произведениях столь важное место роли Провидения в войне между Англией и Францией лишь тогда, когда англичане вели завоевания и одерживали победы. Когда же в период правления Генриха VI они начали терять обширные территории одну за другой, военные неудачи не стали объясняться, как этого, наверное, и следовало ожидать, тем, что Бог по той или иной причине отвернулся от англичан и теперь помогает французам, которые, в свою очередь, стали вести справедливую войну. Такого поворота не произошло: все неудачи англичан, по их мнению, являются следствием ошибок и промахов военачальников, а также предательства со стороны союзников. О влиянии Божьего промысла на ход войны перестают писать совсем, совершенно игнорируя эту тему. Более того, сама тема войны на континенте в середине XV в. практически вовсе перестает интересовать английских авторов того времени: они как бы вытесняют из своих текстов повествование о бесконечных поражениях. Неудивительно, что следствием такой политики умолчания о неприятном явилась скудость информации о последнем этапе англо-французской войны в английских исторических текстах. В результате в середине XVI в. Эдуард Холл был вынужден описывать эти события по французским источникам.[460]
Необходимо подчеркнуть, что отношение к роли Божественного провидения у английских хронистов сугубо индивидуальное и не зависит от того, к какому сословию они относятся. Так, самым большим любителем разных чудес и знамений является анонимный клирик, автор «Деяний Генриха V». Этот хронист во всем происходящем видит Божью руку. Любое, даже самое незначительное событие он склонен трактовать либо как чудо, либо как знамение. Рассказывая об отплытии в 1415 г. Генриха V во Францию, он упоминает о появлении лебедей рядом с английскими кораблями, усматривая в этом знак удачного завершения похода.[461] Другие же клирики, например Томас Уолсингем, Генрих Найтон или Джон Капгрейв, уделяют Божественному провидению внимания не больше, чем светские хронисты, такие как герольд Чандоса или Джон Хардинг. Третьи же, например Псевдо-Элхэм и анонимный монах из Кентербери, вовсе ничего не писали на эту тему.
Характерное для Средних веков представление о войне как о средстве восстановления справедливости и, соответственно, об ожидаемой помощи свыше, которая оказывается праведной стороне, побуждало английских королей обращаться за покровительством к новым, нетрадиционным для Англии святым. По разным причинам в Англии актуализировалось почитание св. Бригитты, а во Франции герцог Бедфорд и его окружение стремились оказать уважение св. Дионисию и представить этого святого сторонником объединенного англо-французского королевства. Параллельно шел процесс апроприации неанглийских святых. Уже на первом этапе войны культ св. Георгия – покровителя воинов превратился в общеанглийский, затмив по популярности культы св. Эдмунда и св. Эдуарда. Представители всех слоев английского общества даже в мирное время начали воспринимать этого святого как покровителя своего народа.
427
Froissart. Vol. II. P. 344; Контамин Ф. Война в Средние века… С. 209.
428
Radulfus de Diceto. Ymagines Historiarum // Opera Historica: 2 vols. / Ed. W. Stubbs. (RS). L., 1876. Vol. II. Р. 51.
429
Schramm P. E. A History of English Coronation. Oxford, 1937. P. 126; Boulton D’Arcy J. D. The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of Knighthood of Later Medieval Europe, 1325–1520. N. Y., 1987. P. 124–125; Bengtson J. Saint George and the Formation of English Nationalism // Journal of Medieval and Early Modern Studies. Vol. II (1997). N. 2. P. 320–321; Riches S. Saint George: on whom all England have byleve // History Today, 2000. Оct. P. 46.
430
Цит. по: Bengtson J. Saint George and the Formation of English Nationalism… P. 326.
431
Marcus G. J. Saint George of England. L., 1929. P. 61.
432
Gesta Henrici Quinti… P. 54.
433
Bengtson J. Saint George and the Formation of English Nationalism… P. 325.
434
The Register of Henry Chichele, Archbishop of Canterbury, 1414–1443: 4 vols. / Ed. by E. F. Jacob. Oxford, 1943–1947. Vol. III. P. 8–10.
435
The Brut. Vol. II. P. 558.
436
См., например: Briege P. English Art, 1216–1307. Oxford, 1957. P. 169; Marcus G. J. Saint George of England…; Bond F. Dedications and Patron Saints of English Churches. Oxford, 1914; Anglo S. Spectacle, Pageantry, and Early Tudor Policy. Oxford, 1969.
437
Hardyng (1) John. The Chronicle. L., 1543; repr. Amsterdam, 1976. Ch. LXXX.
438
Ненний, 56.
439
Enfors we us with all our might
To love Seint George, our Lady knight.
Worship of virtue is the mede,
And seweth him ay of right:
To worship George then have we need,
Which is our Lady’s knight.
He keped the mad from dragon’s dred,
And fraid all France and put to flight.
At Agincourt the crownecle ye red
The French him se formest in fight.
In his virtue he wol us lede
Againis the Frend, the ful wight,
And with his banner us overspede,
If we him love with all oure might
(Capgrave, John. Liber de Illustribus Henricis / Ed. F. Ch. Hingeston. (RS). L., 1858. P. 134).
440
St. Patricia Brigitta Birgersdotter // Studies in St. Brigitta and the Brigittine Order: 2 vols. / Ed. J. Hogg. (Analecta Cartusiane). Zalzburg, 1993. Vol. I. P. 7–28.
441
Letters and Papers Illustrative of the Wars of the English in France During the Reign of Henry the Sixth, King of England: 2 vols in 3 / Ed. by J. Stephenson. L., 1861. Vol. I. P. 1.
442
Revelationes Sanctae Brigitta, IV, 104–105; Colledge E. Epistola solitarii ad reges. Alphonse of Pecha as Organizer of Brigittine and Urbanist Propaganda // Mediaeval Atudies. Vols. XVIII–XIX (1956). P. 19–49; Vauchez A. La diffusion des «Révélations» de sainte Brigitte dans l’espace français à la fin du Moyen Âge // Santa Brigida Profeta Dei Tempi Nuovi / Saint Briget Prophetess of New Ages. Rome, 1991. P. 155–156.
443
Colledge E. Epistola solitarii ad reges… P. 19–49; Vauchez A. La diffusion des «Révélations» de sainte Brigitte… P. 156.
444
Ibid.
445
Colledge E. Epistola solitarii ad reges… P. 31–33.
446
Pantin W. A. The Defensorium of Adam Easton // EHR. Vol. LI (1936). Р. 675–680; Colledge E. Epistola solitarii ad reges. P. 42–44; Johnston F. R. English Defenders of St. Bridget // Studies in St. Brigitta and the Brigittine Order: 2 vols. / Ed. J. Hogg. (Analecta Cartusiane). Zalzburg, 1993. Vol. II. P. 264–265.
447
The Incendium Amoris of Richard Rolle of Hampole / Ed. M. Deanesly. Manchester, 1915. Introduction. P. 95–105.
448
Ibid. P. 103; Knowles D. The Religious Orders in England: 3 vols. Cambridge, 1948–1959. Vol. II. P. 176–177; Tait M. B. The Brigittine Monastery of Syon (Middlesex), with Special Reference to its Monastic Usages: Ph. D. Thesis. Oxford, 1975. P. 54.
449
Gesta Henrici Quinti… P. 12; The St. Albans Chronicle, 1406–1420 / Ed. V. H. Galbraith. Oxford, 1937. P. 82; Adam of Usk. P. 252; Higden (Caxton). Vol. VIII. P. 548; Kingsford C. L. English Historical Literature in the Fifteenth Century, A P. V. «The Latin Brut». P. 323; A Chronicle of London, from 1089 to 1483. P. 99; Catto J. Henry V: Practice of Kingship. Oxford, 1985. P. 106–110.
450
Hoccleve, Thomas. The Regimant of Princes / Ed. by F. J. Furnivall. L., 1897. Lines 5384–5396.
451
Vauchez A. La diffusion des «Révélations» de sainte Brigitte… P. 157.
452
Warren N. B. Kings, Saints, and Nuns: Gender, Religion, and Authority in the Reign of Henry V // Viator. Vol. XXX (1999). P. 309.
453
Tractatus de regimine principum ad regem Henricum Sextum // Four English Political Tracts / Ed. J-Ph. Genet. L., 1977. P. 67–71.
454
Beckett N. St. Bridget, Henry V and Syon Abbey // Studies in St. Brigitta and the Brigittine Order: 2 vols. / Ed. J. Hogg. (Analecta Cartusiane). Zalzburg, 1993. Vol. I. P. 125–150.
455
Thompson G. L. Paris and Its People under English Rule The Anglo-Burgundian Regime 1420–1436. Oxford, 1991. P. 175.
456
Journal d’un Bourgeois de Paris, 1405–1449 / Ed. A. Tuerey. P., 1881. P. 297.
457
Ibid. P. 139, 154, 174 (n. 4), 176; Thompson G. L. «Monseigneur Saint Danis», his Abbey, and his Town, under the English Occupation, 1420–1436 // Power, Culture, and Religion in France c. 1350 – c. 1550 / Ed. C. T. Allmand. Woodbridge, 1989. P. 25.
458
Foedera (2). Vol. IV. P. 346; Strong P., Strong F. The Last Will and Codicils of Henry V // EHR. Vol. XCVI (1981). P. 79–102.
459
Thompson G. L. «Monseigneur Saint Danis»… P. 25–26.
460
Lander J. R. Crown and Nobility… P. 224.
461
Gesta Henrici Quinti… P. 20.