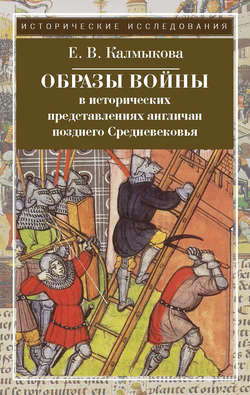Читать книгу Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья - Е. В. Калмыкова - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Англия в борьбе за «справедливость»
Глава 1
Идея ведения справедливой войны в английском историописании XIV–XVI вв
Трактовка военных действий во Фландрии
ОглавлениеКак ни странно, рассказ об англо-фламандских отношениях в эпоху Столетней войны целесообразно начать с договора, заключенного в 1295 г. между Францией и Шотландией. Выше уже отмечалось, что этот союз грозил Англии, в случае конфликта с одной из стран коалиции, войной на два фронта. Стремясь изменить столь неблагоприятную внешнеполитическую ситуацию, Эдуард I активизировал поиски собственных союзников на континенте. Наибольшую выгоду сулил Англии возможный договор с Ги Дампьером, графом Фландрским, ибо графство Фландрское было не только самым удобным плацдармом для нападения на Французское королевство с севера, но и регионом, традиционно ориентированным на дружеские отношения с Англией.
Фландрия вошла в состав франкского королевства еще при Меровингах. Во второй половине IX в. Фландрия стала вассальным от Франции графством, однако вплоть до начала XIII в. эта зависимость носила практически формальный характер. Решительное сопротивление Ги Дампьера давлению со стороны Филиппа IV, стремящегося включить Фландрию в состав королевского домена, являлось хорошей основой к возникновению англофландрского военного союза. К тому же сближению Англии и Фландрии способствовали прочные экономические связи между этими регионами: английская шерсть была необходима для развития сукноделия – ведущей отрасли ремесла Фландрии.[286] Как сказано в хронике Жана Фруассара: «Для общественной пользы всей Фландрии будет лучше жить в согласии и любви с королем Англии, нежели с королем Франции… Ибо… из Англии к ним поступает шерсть и великая прибыль, которая позволяет им жить в достатке и радости».[287]
Воспользовавшись тем, что основные силы Англии были задействованы в войне против Шотландии, Филипп IV добился заметного успеха в Гаскони и во Фландрии. В 1300 г. граф Фландрский окончательно признал суверенитет французской короны. Однако города продолжали оказывать сопротивление королевским войскам. После поражения при Куртре (1302 г.) армия Филиппа Красивого покинула Фландрию. В 1328 г. после подавления при помощи французских войск восстания крестьян и горожан против графа во Фландрии произошло окончательное разделение сил: графы из династии Дампьеров (1278–1405 гг.) стали верными вассалами французских королей, а процветавшие благодаря торговым связям с Англией и лишенные своих вольностей города (прежде всего Гент, Ипр и Брюгге) видели в союзе с английским королем единственный путь сохранения независимости.
Вступив на престол, Эдуард III по примеру своего деда продолжил укрепление политических позиций во Фландрии и Нидерландах. Суверенитет короля Франции над этими землями через графа Фландрского был так же призрачен, как и полученный от Эдуарда Бэллиола суверенитет английского короля над Шотландией. Это была не реальная власть, а лишь претензия на нее. По сути дела, все крупные фландрские феодалы и города вели в то время собственную внешнюю политику. Такое положение было достаточно выгодным для Эдуарда III. Королю Англии было значительно проще заключить целый ряд союзных договоров с непокорными власти графа Фландрского сеньорами и городами, чем один-единственный договор с графом. Некоторые из этих сделок скреплялись династическими браками или их проектами. Особенно большое значение для укрепления позиций английского короля в регионе имел его собственный брак с Филиппой, дочерью графа Геннегау Вильгельма Доброго (1328 г.). Приложив массу усилий, задействовав родственные связи жены, тонко играя на частных устремлениях фландрских феодалов и городов, Эдуард III добился серьезных успехов. Иногда, как сообщают хронисты, будущих союзников приходилось задабривать при помощи денег или дорогих подарков.[288] В результате почти все крупные феодалы Нидерландов обещали военную помощь.[289] Наложив в 1336 г. запрет на продажу английской шерсти традиционным торговым партнерам во Фландрии, король Эдуард вынудил горожан открыто признать себя союзниками Англии.[290] Инициатором и непосредственным руководителем подготовки этого альянса стал Якоб ван Артевельде (английские хронисты называют его «другом» короля Эдуарда[291]), возглавлявший в то время восставших против власти графа горожан Гента. Хорошо осведомленный о делах во Фландрии Жан Ле Бель дал весьма показательную характеристику предводителю мятежных гентцев: «Этот Якоб снискал такую милость и благорасположение по всей Фландрии, что от одного ее края до другого беспрекословно выполнялись любые его замыслы и распоряжения, и ни один человек, как бы знатен он ни был, не осмеливался преступить через его повеление… Ни во Фландрии, ни в какой-либо другой стране еще не было герцога, графа или иного правителя, который бы сумел столь сильно подчинить подданных своей воле, как это сделал тогда с фламандцами Якоб ван Артевельде».[292]
Сложные переговоры и дипломатические ходы находились вне зоны внимания большинства английских хронистов, фиксирующих, как правило, лишь сам факт заключения союза.[293] Даже бывший дипломат, Адам из Маримута, очень кратко сообщает о том, что, находясь в Брабанте, король заключал союзные договоры и пытался собрать денег для предстоящей кампании. Хрониста, уверенного в законности притязаний Эдуарда III на французскую корону, больше волнует, что в результате этих переговоров англичане теряли подходящее время года для начала военных действий.[294] Последнее обстоятельство вовсе не означает, что английских историографов не занимал вопрос о том, что привело к заключению соглашений с фламандцами самого короля Эдуарда, но они дают иную трактовку, стараясь не акцентировать внимание на подкупе и шантаже потенциальных союзников, преподнося заключенные договоры не только как взаимовыгодные, но и совершенно добровольные. Иное дело льежский каноник Жан Ле Бель, который в силу происхождения и службы Жану Бомону был заинтересован в подробном освещении событий во Фландрии и, что немаловажно, гораздо лучше, чем большинство англичан, осведомлен о них. Ле Бель прямо указывает, что, прибыв во Фландрию, Эдуард III пообещал главам восставших против власти графа городов, «что в том случае, если они согласятся оказать ему поддержку и помощь в его войне, он поможет им отвоевать Лилль, Дуэ и другие добрые города, которые король Франции у них отнял и удерживал силой, к большому ущербу для справедливости. По этому поводу фламандцы устроили очень обстоятельное совещание и обсуждение. Ведь прежде, под угрозой выплаты огромной денежной суммы в папскую казну, они обязались не воевать с королем Франции и никоим образом не вредить ему. В конце концов они решили, что если король Англии соизволит назвать себя в своих грамотах королем Франции, то они станут почитать его за короля Франции и повиноваться ему как верховному сеньору, от которого графство Фландрское должно держаться в качестве вассального владения, и помогут ему всеми силами завоевать королевство Французское».[295] Другие хронисты из Нидерландов также сообщают о том, что, польстившись на обещания и богатые дары английского короля, магистраты Гента, Брюгге и Ипра убеждали своих сограждан поддержать союз с Англией, упирая главным образом на зависимость фламандских сукноделов от английской шерсти.[296]
В 1338 г., когда король Эдуард в Антверпене особенно активно вел переговоры с фламандцами, последние находились в состоянии войны с королем Франции. Более того, с точки зрения французов, будущие союзники Англии были мятежными подданными, восставшими против власти короля и своего непосредственного господина Людовика Неверского, графа Фландрского, подтвердившего верность Филиппу Валуа. Возможно, англичане воспринимали бы фламандцев точно так же, если бы во Франции не произошла смена династий. В тот момент, когда Эдуард III заявил о своих претензиях на французский престол, фламандцы переставали быть мятежниками в глазах англичан, поскольку борьба с Филиппом Валуа автоматически превращалась из неповиновения законному королю в сопротивление тирании узурпатора. В свою очередь, граф Фландрский точно так же переставал быть верным подданным короля Франции, становясь непокорным его власти преступником. В Антверпене фламандцы принесли королю Эдуарду «оммаж и клятвы верности, покорившись ему, как их сюзерену, королю Франции».[297] Согласно версии цистерцианца Томас а Бертона, сами фламандцы обратились к Эдуарду с просьбой принять титул короля Франции, законным наследником которого он являлся, и «защитить от всех врагов, пообещав ему господство над их землями».[298] Эта точка зрения на события не претерпела никакого изменения со временем. Точно так же, как авторы XIV в., анонимный подданный Генриха VIII утверждал, что «фламандцы, прекрасно понимая, что король Эдуард имел право на корону Французского королевства, предложили служить ему, как истинному королю Франции».[299]
Декларируя свои законные права, Эдуард III в письме к «сэру Филиппу де Валуа» провозглашал, что он, «Божьей милостью король Франции и Англии и лорд Ирландии», для защиты своих прав «вторгся во Фландрию как ее сюзерен (as Suverayn lord)».[300] На это Филипп VI ответил, что после того, как он со своим войском начнет осаду фламандских городов, народ Франдрии (the Flemyngis) подчинится ему и его брату, графу Фландрскому.[301] После того как папа наложил на Фландрию интердикт и призвал ее к повиновению Филиппу Валуа, фламандцы написали в ответ: «Хотя он [Филипп. – Е. К.] и претендует на то, чтобы быть королем, они принесут оммаж, однако не такому королю, который удерживает корону несправедливо и требует себе господства над королевством недолжным образом».[302] С этим совершенно согласуется то, что пишут английские хронисты, объясняя причину обращения короля Эдуарда к фламандцам. В их трактовке Эдуард III, как справедливый монарх, пекущийся в первую очередь о благе всех подданных, был вынужден защищать последних (в том числе и фламандцев) от нападений врагов и любых незаконных притеснений. Именно поэтому Эдуард отменил, как незаконные, все обязательства и клятвы, связывающие фламандцев с Филиппом Валуа.[303] Таким образом, по версии английских авторов, король заключил соглашения с фламандцами не столько потому, что этот союз был выгоден ему, сколько для того, чтобы защитить своих подданных от нападений узурпатора Филиппа Валуа.
Опять-таки согласно английским историографам, в первую очередь версии сэра Томаса Грея, Эдуард III сразу же стал оказывать реальную помощь новым подданным. Чтобы уничтожить французский флот, который курсировал вдоль побережья Фландрии, не позволяя фламандцам выходить в море, король дал одно из самых грандиозных морских сражений того времени – битву при Слейсе.[304] В том же 1340 г. он был вынужден снять осаду Турне и заключить перемирие с Филиппом Валуа, весьма непопулярное в Англии, только ради того, чтобы папа снял с фламандцев интердикт.[305] Необходимо отдать должное и фламандцам: они оказывали королю Эдуарду существенную помощь, принимая участие в его походе во Францию.
Однако в конце XIV в. отношения между Англией и фландрскими городами, недовольными растущей конкуренцией нового центра торговли шерстью – английского Кале, осложнились до такой степени, что время от времени между прежними союзниками происходили столкновения на море. Самое крупное сражение между английским и фламандским флотами произошло в 1371 г.: в нем победу одержали англичане, захватив двадцать пять кораблей с солью и убив всех фламандцев.[306] Любопытно, как хронисты пытаются оправдать действия своих соотечественников. То, что англичане ограбили и перебили союзников, нарушая таким образом договор между Англией и Фландрией, что, в свою очередь, могло привести к началу войны, не замалчивается в английской историографии. Однако это кровопролитное сражение представлено следствием отнюдь не коварства и вероломства англичан (поскольку в трактовке английских историографов эти характеристики, присущие всем остальным народам, у англичан совершенно отсутствуют), а всего лишь ошибки: «Поистине англичане не знали, что это были фламандцы». Приняв их, видимо, за французов, англичане напали на корабли и перебили всех, кто там находился, прежде чем обнаружилось их заблуждение. Приводя столь наивное оправдание нападения англичан на торговые суда союзников, хронисты отмечают, что, несмотря на то что это недоразумение вскоре было выяснено и мир между Англией и Фландрией восстановлен, именно оно стало причиной «большого разногласия» между двумя народами.[307]
Это «разногласие» привело к тому, что фламандцы все чаще и чаще стали выступать не за англичан, а против них. Хотя официально стороны не только не вели войну, но и находились в союзе, тем не менее постоянные нападения на английские суда не могли не вызвать в Англии недовольство жителями Фландрии, переданное Томасом Уолсингемом. Под 1379 г., прежде чем рассказать о страшном избиении английских моряков, устроенном фламандцами, хронист вдается в весьма пространное рассуждение об особенностях поведения и нравов самаритян-фламандцев, которые «в зависимости от обстоятельств либо любят, либо ненавидят англичан… они англичан уважают и высоко ценят, пока те постоянно одерживают верх над противниками, оказываются сильнее врагов, удачливее, чем враги, богаче; напротив, когда враги на них решают подняться, превосходя в численности, бедствия растут, горести увеличиваются, они отказывают в совете, отказывают в помощи, отказывают в доверии, отказываются от знакомства и в конце концов становятся лютыми врагами», и это проявилось «не раз, не два и не три, но поистине продолжается бесконечно».[308] Таким образом, очевидно, что англичане, признав свою вину в сражении 1371 г., во всех других столкновениях винят фламандцев. Английские историографы утверждают, что постоянными нападениями на английские корабли и поддержкой, которую фламандцы оказывают королю Франции, они не только подталкивают короля Англии к разрыву договора о союзе, но и к началу войны против Фландрии.
После восьми лет обострения отношений ситуация снова изменилась в 1379 г., когда города Фландрии во главе с Гентом начали широкое движение, направленное против власти графа. После того как в 1382 г. граф Людовик II Мальский из династии Дампьеров обратился за помощью к своему сеньору королю Франции Карлу VI, а также к зятю герцогу Бургундскому Филиппу II, восставшие горожане во главе с Филиппом ван Артевельде, сыном знаменитого Якоба ван Артевельде, были вынуждены искать поддержку у своего традиционного союзника Англии. Тем временем двенадцатитысячная французская армия одержала во Фландрии целый ряд побед, самой блистательной из которых была битва при Розбеке, вынудив к сдаче почти все мятежные города, кроме Гента. Для выручки осажденного французами Гента в Англии была собрана армия. На этот раз был использован религиозный лозунг, связанный с начавшейся в 1378 г. Великой схизмой.
Экспедиция во Фландрию готовилась в Англии как крестовый поход в защиту папы Урбана VI против профранцузски настроенного антипапы Климента VII. Во главе крестоносного войска был поставлен епископ Нориджский Генрих Деспенсер. Подготовка этого похода прошла в лучших традициях крестоносного движения: папа Урбан издал буллы, приравнивающие участие в борьбе со схизматиками к походу в Святую землю. Согласно этим буллам, полное отпущение грехов получали не только те, кто непосредственно отправлялся вместе с епископом, но и все те, кто сделает какое-нибудь пожертвование на поход.[309] Поэтому все, особенно женщины, старались пожертвовать как можно больше, отдавая деньги, золотую и серебряную посуду, драгоценности, снаряжая целые отряды латников. Многие, по мнению Генриха Найтона, «отдавали гораздо больше, чем могли себе позволить».[310] Богатый лондонский торговец Джон Филпот, неоднократно ссужавший корону деньгами на организацию военных кампаний, на этот раз за свой счет перевез на континент около 60 тысяч «крестоносцев».[311] В принципе крестовый поход был организован не только против Фландрии, но также против Франции, Шотландии и «многих других стран, которые благоволили к антипапе и поддерживали его».[312] Более того, некоторые хронисты называют схизматиками одних французов, полагая, что поход был организован только против них.[313] Однако Англия уже давно воевала с Францией и Шотландией, поэтому относительно Столетней войны крестовый поход епископа Нориджского мог явиться лишь поводом для организации очередной кампании, но никак не свидетельствовать о причинах конфликта. В то же время, несмотря на постоянные столкновения на море, Фландрии война все еще не была объявлена. Следовательно, борьбу со схизматиками можно упомянуть в качестве второй причины, которая приводится в английской хронистике для оправдания войны с графом Фландрским, верным союзником короля Франции и приверженцем антипапы. Первой причиной по-прежнему оставалось неповиновение графа истинному, с точки зрения англичан, королю Франции, теперь уже Ричарду II. Здесь снова важно подчеркнуть, что война с графом Фландрским вовсе не означала войну со всеми фламандцами, верными подданными короля. Это также подтверждает тот факт, что самыми надежными союзниками англичан в крестовом походе были горожане Гента. Последние, после того как английское войско во главе с епископом позорно бежало в Англию, сдав врагу все ранее ими захваченные города и крепости во Франции и Фландрии, остались совершенно одни против армии графа и короля Франции.[314]
Последний раз горожане Гента обратились с мольбой о помощи к Ричарду II в 1385 г., заявив Королевскому совету, что у них нет больше сил оказывать сопротивление мощной французской армии и «что, если им вскоре не будет оказана поддержка, они будут вынуждены сдать город королю Франции».[315] Необходимо отметить, что перед этим только закончился всеанглийский поход против шотландцев и французов, организовавших совместное нападение на Англию. Этот поход, возглавленный самим Ричардом II, имел действительно невиданный ранее размах, и казна понесла огромные потери; кроме того, в стране ходили упорные слухи о том, что Карл VI готовит новое нападение на Англию. В этой ситуации Королевский совет отнюдь не спешил оказать помощь Генту – последнему очагу сопротивления власти французского короля во Фландрии, поскольку все остальные мятежные города уже капитулировали. Это нежелание поддержать верных союзников не могло не найти отражение в хрониках. Как всегда, очень интересно проследить за тем, как историографы пытаются оправдать предательство, совершенное соотечественниками, и обвиняют в неверности союзников. Современник, анонимный автор «Вестминстерской хроники», высказал следующее мнение по этому вопросу: «Но какой смысл английскому королю был посылать ее [помощь. – Е. К.] для них, когда они почти все были французами (cum tunc omnes pro majori parte essent Francigene)? Необходимо отметить также, что это было сделано не по принуждению, а по своей доброй воле они отвернулись от короля Англии».[316] Но, согласно версии английских авторов, благородный король Англии все же не мог не выполнить свой долг перед союзниками, пусть и не очень хорошими. Он приказал снарядить отряд из 300 латников и 700 лучников для защиты Гента, правда, из-за нового нападения шотландцев он был вынужден отменить свой приказ и отправить этот отряд к Берику.[317] В хрониках рассказан и конец этой истории, видимо, для того, чтобы продемонстрировать вероломство фламандцев, с легкостью меняющих союзников и сюзеренов, что, разумеется, снимало вину с английского короля, не предоставившего помощь соратникам в тяжелую для тех минуту. Сначала в Генте, а потом и в других городах Фландрии горожане решали вопрос о том, кому им следует подчиниться: «Королю Англии, королю Франции или герцогу Бургундскому, и предпочтение было отдано последнему».[318]
Таким образом, очевидно, что представления английских историографов об отношениях между Англией и Фландрией, а также, что особенно любопытно, образ фламандцев в сознании англичан не только не были статичными, но в зависимости от политической ситуации менялись на диаметрально противоположные. В начале Столетней войны фламандцы воспринимались как верные союзники, а то и преданные подданные Плантагенетов. Вплоть до конца царствования Эдуарда III любые военные столкновения англичан и фламандцев трактовались как простые недоразумения. В правление Ричарда II ситуация изменилась принципиально. Ориентированный на мир с Францией, Ричард лишь однажды согласился на организацию поддерживающей фландрские города экспедиции (крестовый поход епископа Нориджского 1383 г.), которая закончилась полным поражением англичан. Возмужав, Ричард перестал оказывать фламандцам содействие даже в тех ситуациях, когда те остро нуждались в английской помощи. В этот период участившиеся столкновения на море перестали преподноситься в качестве случайных. Все это привело к тому, что фламандцы решили искать себе другого защитника от французского короля и обратились к герцогу Бургундскому Филиппу Храброму, мужу графини Маргариты Дампьер, признав его своим сюзереном. При этом между Англией и Фландрией по-прежнему официально сохранялись дружеские отношения.
Мир был нарушен в 1436 г., когда перешедший на сторону Карла VII герцог Бургундский с огромным войском, в котором находились его новые подданные фламандцы, осадил Кале. Судя по хроникам, а также популярным поэмам того времени, англичане восприняли поступок герцога, а также вероломность фламандцев (забывших о том, скольким они обязаны англичанам, более ста лет проливавшим за них кровь[319]) как предательство. Не вдаваясь в излишние подробности, приведу цитату из одной поэмы, написанной на осаду Кале, автор которой не просто осуждает бывших союзников за измену, но и проявляет определенную изобретательность в сочинении оскорблений:
Помните теперь, фламандцы, о своем стыде;
Когда вы осадили Кале, вы были достойны порицания;
Ибо у англичан репутация лучше вашей,
И происходят они от более древней и благородной крови;
Ибо фламандцы происходят от осужденных (Flemmed) людей, должны вы понять,
Поскольку осужденные и изгнанные люди первыми заселили вашу землю.
Поэтому я утверждаю, что фламандцы
И Фландрия, взявшая имя от фламандцев, – осуждены!
Так, фламандцы, вы и зоветесь осужденными,
И по сравнению с англичанами вам должно быть стыдно!
Вы годитесь только на словах драться;
Так что лучше были бы вы смирными: ибо Господь пошлет вам поражение![320]
Завершая рассказ об осаде Кале, следует добавить, что посланный на выручку городу герцог Глостерский не только блестяще справился с возложенной на него задачей, но и совершил опустошительный рейд по Фландрии. Война была объявлена. Фламандцы перестали быть друзьями англичанам, превратившись в таких же врагов, что и французы.
Подводя некоторые итоги главы, необходимо подчеркнуть, что для английских авторов XIV–XVI вв. чрезвычайно важно было подтвердить справедливость всех войн, организованных их государями. В тех случаях, когда в качестве официальных обоснований начала конфликтов использовались династические притязания (англо-французское противостояние, испанские кампании, война Бэллиола и Брюса), хронисты стремились доказать законность наследственных прав «своих» монархов и, соответственно, нелегитимность действий врагов, обвиняемых в узурпации. Постулирование нарушения противниками англичан патримониальных прав влекло за собой целый ряд других обвинений. Английские правоведы, а за ними и историографы репрезентировали королей Англии не только борцами за собственные наследственные права, но также защитниками справедливости в целом. Подобный подход, в частности, предполагал внимание к сюжетам, связанным с заботой государей о безопасности и процветании подданных (выражавшейся, например, в отражении непосредственной вражеской агрессии). Другим следствием утверждения правомерности военных акций собственных монархов являлось перекладывание ответственности за кровопролитие и иные противоречащие христианской морали действия на их противников.
Также следует отметить, что иерархия и развернутость тех или иных аргументов не остаются неизменными на протяжении всего периода. Это зависит не только от внешних обстоятельств (подобно переходу фламандцев в лагерь противников англичан), но и от закономерностей развития исторического и политического мышления. По мере того как какие-то сюжеты (например, династические) постоянно воспроизводятся в историографии, они претерпевают изменение, которое можно было бы обозначить как «рутинизацию». С одной стороны, авторы поэм и хроник уже не считают необходимым в подробностях пояснять читателям детали того или иного аргумента или казуса; постепенно становится достаточным простого указания на наследственные права или древнюю вражду. С другой стороны, теряя аргументы и обстоятельность, определенный довод становится не менее, а более убедительным; хронист уверен в его самоочевидности и в том, что приведенное им соображение уже давно утвердилось в сознании читателей. Автор начинает оперировать тем или иным тезисом (например, о праве Эдуарда III на корону или о коварстве фламандцев) как безотказным инструментом, который уже сам служит основанием для подтверждения новых, требующих доказательства положений.
На протяжении XIV–XVI вв. происходят заметные изменения в манере английских историографов излагать причины ведения боевых действий. Хотя рассуждения авторов исторических сочинений о законности вступления Англии в войну по преимуществу связаны с правами и деяниями государей, симптоматично появление в их трудах в связи с обсуждением этой проблемы таких категорий, как «почетно» для английского народа (короля, страны) или «позорно» для Англии (страны, народа, англичан). В этом проявляется отождествление позиции всего народа и его государя как естественного лидера сообщества, главы политического «тела» королевства.
286
Басовская Н. И. Столетняя война 1337–1453… С. 25–26; Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007. С. 59–61.
287
Фруассар. Амьенский манускрипт. С. 123; Froissart. Vol. II. P. 410.
288
Le Baker. P. 60.
289
Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 966, 971–972, 981, 984–985, 989, 996, 998–999, 1035, 1041–1042, 1063, 1092 etc.; Басовская Н. Н. Столетняя война 1337–1453… С. 35.
290
Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 943; Анонимная бернская хроника // Хроники и документы Столетней войны… С. 175–178; Фруассар. Амьенский манускрипт. С. 109–110; Froissart. Vol. II. P. 361–363.
291
Grafton. P. 360; Fabyan. P. 449.
292
Ле Бель, Жан. Правдивые хроники // Хроники и документы Столетней войны… С. 84–85; Le Bel. Vol. I. P. 128–130.
293
Walsingham. Vol. I. P. 223; Higden. Vol. VIII. P. 335; Knighton (1). P. 16; Capgrave. P. 206; Adam Murimuth. P. 85–86; Gray. P. 106–108; Avesbury. P. 302; Grafton. P. 338–339, 342; Fabyan. P. 449.
294
Adam Murimuth. P. 84–85, 90–91.
295
Ле Бель, Жан. Правдивые хроники // Хроники и документы Столетней войны… С. 100; Le Bel. Vol. I. P. 166–167.
296
Краткая хроника Бодуэна Авенского / Фландрская хроника // Хроники и документы Столетней войны… С. 139; Анонимная беарнская хроника // Хроники и документы Столетней войны… С. 175–178; Фруассар. Амьенский манускрипт. С. 109–111, 124–126, 134–136, 163–164; Римский манускрипт. С. 323–324, 328, 331–333, 357–358; Манускрипты «семейства А/В». С. 445–447, 475–476; Froissart. Vol. II. P. 361–363, 365–383, 410–413, 445–448.
297
Gray. P. 107–108. См. также: Le Baker. P. 66; Fabyan. P. 449; Adam Murimuth. P. 92. Walsingham. Vol. I. P. 220; Knighton (1). P. 22; Kirkstall Abbey Long Chronicle. P. 88.
298
Burton. Vol. III. P. 42.
299
A Declaracion of the Trewe and Dewe Title of Henry VIII. P. 155.
300
The Great Chronicle of London / Ed. A. H. Thomas and I. D. Thornley. L., 1938. P. 35–36.
301
Ibid. P. 36–37.
302
Walsingham. Vol. I. P. 228.
303
A Declaracion of the Trewe and Dewe Title of Henry VIII. P. 155–156.
304
Gray. P. 109; Avesbury. P. 312; Fabyan. P. 451.
305
Gray. P. 111; Avesbury. P. 336; Walsingham. Vol. I. P. 230; Grafton. P. 342; Knighton (1). P. 30; Higden. Vol. VIII. P. 355.
306
Walsingham. Vol. I. P. 297, 313–314; Capgrave. P. 228; Adam Murimuth. P. 211; The Brut. Vol. II. P. 325; Gregory. P. 89.
307
Walsingham. Vol. I. P. 313–314; Capgrave. P. 228; Adam Murimuth. P. 211.
308
Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 230–231; Walsingham. Vol. I. P. 399–400.
309
The Westminister Chronicle. P. 31; Knighton (1). P. 324.
310
Knighton (1). P. 324.
311
Walsingham. Vol. II. P. 95–96.
312
Knighton (1). P. 324.
313
Adam of Usk. P. 14; Historia Vita et Regni Ricardi Secundi… P. 41–42; Grafton. P. 430; Fabyan. P. 532; The Westminister Chronicle. P. 31 (правда, в другом месте автор «Вестминстерской хроники», рассказывая о победе епископа над схизматиками у города Дюнкерка, указывает на то, что во вражеском войске были не только французы, но и фламандцы, см.: The Westminister Chronicle. P. 40).
314
Walsingham. Vol. II. P. 96–102; Historia Vita et Regni Ricardi Secundi… P. 48; Knighton (1). P. 328.
315
The Westminister Chronicle. P. 146.
316
Ibid.
317
Ibid. P. 146–148; Walsingham. Vol. II. P. 142.
318
The Westminister Chronicle. P. 148.
319
The Brut. Vol. II. P. 582–584, 600–601. Также см.: Grafton. P. 611; Fabyan. P. 610–611; Hall. P. 181–184; An English Chronicle. P. 55; Higden (Caxton). Vol. VIII. P. 563; On the Siege of Calais // English Political Poems. Vol. II. P. 152–156.
320
Remembres now, ye Flemmynges, upon youre owne shame;
When ye laide seege to Caleis, ye wer right still to blame;
For more of reputacioun, ben Englisshmen then ye,
And comen of more gentill blode, of olde antiquite;
For Flemmynges come of Flemmed men, ye shall wel undirstand,
For flemed men & banshid men enhabit first youre land.
Thus proue I that Flemmynges is but a flemed man,
And Flaunders, of Flemmynges, the name first began.
And therfore, ye Flemmynges, that Flemmynges ben named,
To compare with Englisshmen, ye aught to be ashamed!
Ye be nothing elles worth, but gret wordes to camp;
Sette ye still, & bith in pees: God quye you quadenramp!
(The Brut. Vol. II. P. 583–584; Historical Poems… P. 85–86).