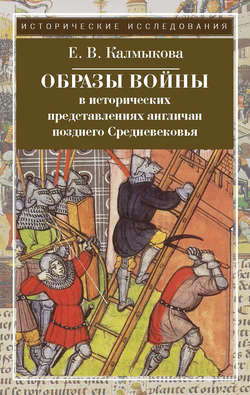Читать книгу Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья - Е. В. Калмыкова - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Англия в борьбе за «справедливость»
Глава 1
Идея ведения справедливой войны в английском историописании XIV–XVI вв
Обоснование законности военных действий в Шотландии
ОглавлениеИстория англо-шотландских конфликтов и противоречий уходит корнями в раннее Средневековье. На протяжении веков правители населявших северные и центральные районы Британии бриттов и пиктов вели войны как между собой, так и с различными пришельцами – скоттами, англосаксами, скандинавами. В 843 г. Кеннет МакАлпин, скотт по отцу и пикт по матери, смог создать единое государство скоттов и пиктов, именуемое по-гэльски Альба (Alba), а по-латыни Scotia. Примерно полвека спустя благодаря военным и политическим заслугам короля Уэссекса Альфреда Великого (871–899 гг.) началось объединение англосаксонских королевств в единую державу. Конфликт между двумя сильнейшими государствами на острове был неизбежен. Центральной ареной борьбы шотландцев и англичан стала находившая под властью датчан Нортумбрия. В начале X в. шотландцы вторгались в Нортумбрию с севера, англичане – с юга, а из-за моря являлись скандинавы. В 921 г. сыну Альфреда Великого Эдуарду Старшему удалось достичь существенного успеха в борьбе с шотландским королем Константином II. Последний признал английского короля своим «господином и отцом». Данный договор считается древнейшим мирным соглашением между Англией и Шотландией.[215] Позднее этот документ стал одним из важнейших аргументов английских королей, претендующих на суверенитет над северным соседом.
В 927 г. Константин заключил аналогичный договор с сыном Эдуарда Этельстаном. Мирное соглашение, а также родственные узы (Этельстан стал крестным отцом сына Константина) не помешали английскому королю вторгнуться в 934 г. в Шотландию. Действия английского короля заставили Константина заключить союз с норвежцами. И хотя Этельстан разбил своих противников в битве при Брунанбурге (937 г.), шотландцы не оставили попыток захватить Нортумбрию. За несколько следующих десятилетий шотландцы фактически покорили весь Лотиан: в 973 г. король Англии Эдгар согласился с утратой этих земель на условии, что скотты будут оказывать ему военную поддержку. В 1018 г. король Шотландии Малькольм II (1005–1034 гг.) разбил войска эрла Нортумбрии в Карамской битве, окончательно утвердив свою власть над Лотианом. Попытки Кнута Великого отвоевать эту область не имели успеха.
В 1057 г. последний англосаксонский король Эдуард Исповедник помог Малькольму III (1057–1093 гг.) одержать верх над захватившим еще в 1040 г. шотландскую корону узурпатором Макбетом и взойти на престол предков. Благодарный Малькольм присягнул Эдуарду на верность. После завоевания Англии в 1066 г. нормандским герцогом Вильгельмом Малькольм пытался поддержать претендующего на английский трон Эдгара Этелинга, на сестре которого Маргарите он был женат. Однако уже в 1072 г. Вильгельм Завоеватель разбил войско шотландского короля, который не только отказался от претензий на Камбрию, но также принес английскому королю оммаж и клятву верности как своему сеньору. После смерти Вильгельма I подобная клятва была принесена его сыну – Вильгельму II. В этот период на политическую и социальную жизнь Шотландии распространилось влияние англонормандской культуры, заметно усилившееся в период правления младшего из сыновей Малькольма III, Дэвида I (1124–1153 гг.). Сестра Дэвида стала женой английского короля Генриха I, а сам король Шотландии взял в жены Матильду, дочь графа Нортумбрии и вдову графа Нортгемптона. По условиям брачного договора Дэвид получил графства Хантингдон и Нортгемптон на правах ленного держания от английской короны.
До второй половины XII в. внешняя политика шотландских королей была сосредоточена главным образом на сложных взаимоотношениях с английской короной. Основные проблемы, мешающие мирному сосуществованию соседних королевств, сводились к постоянному стремлению Англии установить господство над северным соседом, а также к желанию шотландских королей не только добиться полной независимости от Англии, но и расширить пределы своего государства за счет присоединения пограничных земель. Рано или поздно поиск союзников против могущественных Плантагенетов должен был привести Шотландию к соглашению с Францией. Впервые это соглашение было заключено в период правления одного из самых известных королей из династии Плантагенетов, Генриха II (1154–1189 гг.). Континентальные владения Генриха (Анжу, Мен, Турень, Пуату, Нормандия, Аквитания и Бретань) превосходили домен французского короля, в Британии он стремился расширить свои владения за счет Уэльса и Ирландии. В 1173 г. шотландский король Вильгельм Лев заключил союз с французским королем Людовиком VII и английскими принцами, поднявшими мятеж против единоличной власти своего отца. Военная удача способствовала Генриху II. Шотландское войско было полностью разбито, сам Вильгельм Лев оказался в английском плену. В 1174 г. в Фалезе (Нормандия) заключенный в оковы шотландский король подписал договор, по которому его королевство становилось английским фьефом, а сам Вильгельм – вассалом Генриха, шотландская Церковь должна была подчиняться английской, а все магнаты обязывались присягать королю Англии и его потомкам.[216] Впрочем, уже 1189 г. Фалезский договор был отменен Кентерберийским отказом, по которому Вильгельм Лев выкупил у готовящегося к крестовому походу Ричарда I все свои права за 10 тысяч марок.[217] Младший брат Ричарда Львиное Сердце Иоанн Безземельный неоднократно пытался отказаться от соблюдения заключенного его предшественником договора. Неожиданная смерть Иоанна в 1216 г. предотвратила очередной военный конфликт между соседними королевствами. Девятнадцатилетний король Шотландии Александр II (1214–1249 гг.) возвратил английской короне захваченный ранее Карлайл, а также присягнул малолетнему Генриху III на верность за Хантингдон и Тайндел.
В 1291–1292 гг. в Шотландии разгорелась Великая тяжба за корону, на которую претендовало тринадцать представителей аристократических фамилий. Желая доказать свои права на суверенитет над Шотландией, король Англии Эдуард I в 1291 г. отдал приказ разыскать в архивах и монастырских библиотеках любые свидетельства из истории англо-шотландских отношений. Около тридцати монастырей выполнили королевское распоряжение.[218] Эдуарду удалось добиться своего: большинство основных претендентов (включая Роберта Брюса и Джона Бэллиола) признали его суверенитет и доверили королю Англии роль арбитра в тяжбе. Избранный в 1292 г. королем Шотландии, Джон Бэллиол немедленно присягнул на верность поддержавшему его Эдуарду I.[219] Однако уже в 1294 г. Бэллиол в угоду шотландским магнатам отказался помочь королю Англии в войне против Филиппа IV.[220] А в следующем году в Париже был подписан новый официальный франко-шотландский договор, направленный в первую очередь против Англии.[221] Условия парижского договора предусматривали совместные военные действия союзников, а также участие Франции в любых англо-шотландских мирных договорах.[222] Очевидно, что заключение в период англо-французского вооруженного конфликта в Гаскони подобного соглашения было со стороны Шотландии фактическим объявлением войны. С этого момента Англия оказывалась перед угрозой ведения войны на два фронта, реализовавшейся уже в 1296 г.,[223] когда в Шотландии началась антианглийская борьба за независимость (1296–1328 гг.).[224]
В период Войны за независимость[225] франко-шотландские союзнические отношения продолжали укрепляться. Филипп IV был первым монархом, признавшим законность власти Роберта Брюса. В 1326 г. был подписан франко-шотландский договор в Корбейле, усиливавший взаимные обязательства союзников: в случае войны одной из сторон против Англии любые мирные соглашения другой стороны с последней также аннулировались.[226] Заключенный на подобных условиях договор с Францией оказал существенную поддержку Шотландии на последнем этапе войны за независимость. Сложная внутриполитическая ситуация, сложившаяся в самой Англии после низложения Эдуарда II, также вынуждала королеву Изабеллу и ее любовника лорда Мортимера, управлявших королевством от имени малолетнего Эдуарда III, к скорейшему заключению мира с северным соседом. Вскоре после своей коронации (в марте 1328 г.) Эдуард III с одобрения парламента признал Роберта Брюса королем Шотландии.[227] В своем письме Эдуард выражал сожаление по поводу того, что «тщетные попытки» английских королей установить суверенитет над Шотландией привели оба королевства к «жестоким испытаниям». 17 марта в Эдинбурге шотландский парламент утвердил окончательный текст договора: «Королевство Шотландия навсегда останется во всем отдельным от королевства Англии, в своей целости, свободе и мире, без какого-либо подчинения, неволи, притязаний или требований, в своих подлинных границах, как при Александре [III], доброй памяти покойном короле скоттов».[228] Эдуард III от своего имени и от имени своих преемников отказался от всех притязаний на Шотландию и объявил недействительными все акты, где таковые выдвигались. В июле 1328 г. мир с Шотландией был скреплен браком сына Роберта Брюса Дэвида и сестры Эдуарда Джоанны.
Однако этот мирный договор не был популярен в Англии, где его считали «позорным» («pax turpis»)[229] по крайней мере по двум причинам. Во-первых, сохранение союза Шотландии и Франции несколько сковывало английскую континентальную политику. Сознавая это, Филипп VI Валуа, коронация которого грозила конфликтом с Англией, подтвердил союз между Францией и Шотландией непосредственно после завершения Войны за независимость. Во-вторых, по этому договору целый ряд знатных английских лордов лишался своих шотландских владений: поскольку Роберт Брюс утверждал, что вассалы английской короны не могут держать земли в его королевстве, впрочем, шотландцы также не должны были владеть ленами в Англии во избежание смешанного подданства.[230]
В представлении английских хронистов этих двух причин было достаточно для того, чтобы рано или поздно король Англии попытался аннулировать условия данного договора, а также если не полностью покорить Шотландию, то хотя бы восстановить для себя и своих потомков права, которыми обладал его дед Эдуард I. В течение 1330-х гг. в Англии с явного одобрения двора проводилась пропаганда идеи о том, что мир, заключенный с Шотландией, был позором не только для короля, проигравшего войну, но и для всего английского народа. При этом активно распространялось утверждение, неоднократно повторявшееся и в английских хрониках, что этот мир был заключен вопреки желанию короля: королева Изабелла и Роджер Мортимер «с согласия многих знатных англичан»,[231] воспользовавшись малолетством короля, составили договор, отменяющий «все права и претензии на сюзеренитет, которыми когда-либо обладал сам [король Эдуард. – Е. К.] или его предки в королевстве Шотландия»,[232] и скрепили этот мир браком английской принцессы и наследника шотландского трона.[233] Только Томас Бертон замечает в своей хронике, что во время этой свадьбы Эдуард III «письменно вновь провозгласил нерушимость суверенитета, господства и всех прав, которыми он сам или его предки обладали или претендовали на них в королевстве Шотландии».[234] Впоследствии Мортимер, ставший любовником королевы, преследуя собственную выгоду, якобы исказил этот договор. Однако, возмужав, король Англии не только наказал лорда Мортимера, «присвоившего казну королевства», а также «власть в королевстве узурпировавшего»,[235] но и отказался признать заключенный с шотландцами мир. При этом необходимо отметить, что в длинном списке обвинений, выдвинутых лорду Мортимеру, заключение предательского «позорного мира» шло на втором месте, сразу после убийства Эдуарда II, но перед присвоением королевских богатств, поношением Эдуарда III и любовной связью с королевой Изабеллой.[236] Реконструируя события почти вековой давности по документам и трудам предшественников, Томас Уолсингем вставил в текст обвинение Мортимера в получении 20 тысяч фунтов от шотландцев, благодаря которым он решил «препятствовать чести короля и королевства», позволив шотландцам бежать в битве, данной в парке Станхоуп, и заключив «позорный мир».[237] Писавший непосредственно после низложения Мортимера, анонимный автор хроники «Брут» также утверждал, что граф запретил англичанам преследовать шотландцев в том сражении, а ведь даже сам Брут, во власти которого находился весь остров, не продвигался так далеко на север.[238] Казнив предателя, а именно так называют хроники лорда Мортимера, король Эдуард не только снял с себя обвинение в том, что навлек позор на весь английский народ, но и получал прекрасный предлог для возобновления войны против Шотландии.
Подобное решение короля не должно было вызвать удивление среди его подданных, наоборот, отказ от сюзеренитета над Шотландией скорее приводил их в недоумение, ведь англичане сражались за это право веками. Любопытно, что в сочинении льежского каноника Жана Ле Беля вообще не упоминается об условиях заключенного в 1328 г. мира между Англией и Шотландией. Это тем более удивительно, что принимавший личное участие в неудачной английской кампании в Шотландию в 1327 г., состоящий на службе у Жана де Бомона (дяди жены Эдуарда III королевы Филиппы), хронист должен был быть неплохо осведомлен о столь важном договоре. Между тем Жан Ле Бель перекладывает всю вину за начало новой англо-шотландской войны на Дэвида II, обвиняя его в том, что шотландский король якобы незаконно удерживал город Берик, а также не принес Эдуарду III оммаж и клятву верности, «хотя королевство Шотландия считается фьефом английской короны». По версии каноника из Льежа, в 1332 г. Эдуард III обратился к парламенту за советом о том, каким образом в сложившейся ситуации он может уберечь свою честь. «Все бароны, рыцари, советники из добрых городов и представители всей страны посовещались, а затем дружно ответили, что, по их мнению, король Шотландии совершает в отношении их государя несправедливость, которую нельзя стерпеть. Поэтому они советуют ему собрать могучее войско, войти в пределы Шотландии, захватить город Бервик [sic. Берик. – Е. К.], принадлежавший его предшественникам, а затем так сильно стеснить короля Шотландии, чтобы тот был рад и счастлив принести ему оммаж и дать любое возмещение».[239]
Наиболее полно идея «векового» господства Англии над Шотландией изложена в «Деяниях Эдуарда III». Автор этого труда – Роберт из Эйвсбери, находившийся вплоть до своей смерти в 1356 г. на службе у архиепископа Кентерберийского и выражавший официальную придворную точку зрения на все события, – уделил данному вопросу особо пристальное внимание, предоставив читателям, своим «современникам и потомкам», пространную историческую справку, сделанную им по материалам «древних хроник». Рассказ начинается с истории о происхождении шотландского народа: один знатный египтянин был изгнан со своей семьей из страны. Поселившись в районе Наварры, он дал начало воинственному народу пиктов. Далее Роберт приводит заимствованную им у Гальфрида Монмутского историю о том, как в 75 г. н. э. пикты потерпели поражение от бриттов, после чего король по следних Марий выделил пиктам для поселения землю на севере Британии. Пикты, пришедшие в те земли с войной и поэтому не имевшие своих женщин, попросили в жены женщин из народа бриттов, а получив отказ, сделали аналогичное предложение иберам. От браков пиктов и иберских женщин и произошли скотты, названные так потому, что происходят от разных народов («ex diversis nationibus»).[240] Сделав последнее умозаключение совершенно самостоятельно, хронист переходит непосредственно к главной теме главы – рассказу о древнейшем периоде истории подчинения Шотландии южному соседу, которого, что примечательно, он именует королевством Англией, невзирая на то, что речь шла о завоеваниях, сделанных во времена бриттов и римлян. Следует отметить, что подобное объединение истории земли, в данном случае – острова Британии, с историей возникающих на этой территории политических образований, при котором неизбежно возникает тенденция к «апроприации» истории населявших эту землю народов, характерно не только для средневековых историографов.[241]
Возвращаясь к проблеме обоснования в английской исторической традиции законности английского суверенитета над Шотландией, замечу, что в этом контексте чрезвычайно часто встречаются отсылки к древней истории населявших Британию народов. Так, рассказывая о заключении «позорного» мира 1328 г., автор хроники «Брут» вспоминает, что со времен Брута, единственного правителя на всем острове, «королевство Шотландия находилось в вассальной зависимости от английской короны», поэтому Брут передал Англию своему старшему сыну, а Шотландию – среднему, чтобы он находился в подчинении у старшего брата.[242] Этот хронист с самого начала отказывается признавать легитимность королей из династии Брюсов, считая не только Роберта «предателем и тираном» («fause tirant and traitor»), но и его сына «предателем и врагом Англии» («traitour and enemy vnto England»), «не имеющим никаких прав на королевство» Шотландию.[243] Для этого хрониста сам брак Дэвида и сестры Эдуарда III наносит оскорбление английской королевской крови («grete harme and enpeiryng to al pe kyngus bloode»).[244] Примечательно, что дополнивший хронику Жана Ле Беля сведениями из других источников, среди которых была одна из версий хроники «Брут», Жан Фруассар не только повторил рассуждения льежского каноника о вассальных обязательствах шотландского короля перед английским, подчеркивая, что в Шотландии «нет ни одной независимой области, но все они относятся к Йоркскому округу, который является частью Английского королевства и имеет архиепископскую кафедру», но также кратко пересказал историю возникновения Шотландии, как зависимого от Англии королевства.[245] При этом вслед за анонимным английским хронистом Фруассар именует королевство, доставшееся старшему из наследников Брута, Англией, что свидетельствует не просто о желании историографов XIV–XV вв. ссылаться на древнюю историю, аргументируя современные им притязания английских государей на суверенитет над северным соседом, но также о присвоении англичанами истории завоеванных ими бриттов.
Отдельного внимания заслуживает пересказ истории взаимоотношений Англии и Шотландии в хронике Роберта из Эйвсбери, наглядно объединяющий техники повествования об историческом превосходстве английского народа над другими (в данном случае – шотландским) и об английских королях как о защитниках и представителях установленного Господом справедливого порядка, особенно в делах наследования (подобная обязанность становится причиной для боевых действий, оправдание которых систематически ищется в далеком прошлом). Легендарный король Артур, память о котором стала англичанам особенно дорога именно в правление Эдуарда III, восстановившего Круглый стол, вторгся в земли скоттов, захватил их и «имел Шотландию у себя в услужении (“servitio suo”)». А также и римские императоры, «в то время, когда они правили королевством Англией… королевство скоттов и пиктов себе подчинили, и тех же восставших скоттов и пиктов из королевства Шотландии изгнали».[246] Этот пассаж заслуживает особого внимания. В трактовке хрониста из Эйвсбери постепенно завоевывающие Британские острова римляне подчиняют шотландцев и ирландцев не сенату и римскому народу, а предкам англичан, которыми они в то время правили. Таким образом, историк сглаживает момент подчинения самих бриттов власти Рима. После падения Римской империи англичане продолжали осуществлять успешные походы в Шотландию, а в 907 г. король Эдуард, старший сын Альфреда Великого, заставил короля и знать Шотландии принести ему клятву верности. В 933 г. король Этельстан «лишил короля Шотландии королевства», возвратив его потом обратно, но уже как даннику («tributarium»). Сын Этельстана, король Эдред,[247] «подчинил и взял клятву верности с шотландцев в 950 г.», то же делали и другие короли Англии, а также датчане, «защищавшие королевство Англию», – так, Кнут Великий «владел и управлял» Шотландией в течение всей своей жизни. Хронист рассказывает о «покорениях» Шотландии в правление св. Эдуарда, Вильгельма Завоевателя, Вильгельма Рыжего. Генрих I, женатый на дочери шотландского короля Малькольма, после смерти сына последнего, Эдуарда, в 1107 г. «возвел на престол» его брата Александра. В 1137 г. Стефан I не только покорил короля Дэвида, но и забрал его сына в Англию в качестве заложника, и наследник шотландского трона Генрих был «человеком короля Стефана». В 1163 г. король Малькольм принес оммаж Генриху II, а в 1175 г. новый король Вильгельм не только принес ему оммаж «за королевство Шотландию и все свои земли», но также и клятву верности «как своему сюзерену», «и то же сделали все епископы, графы и бароны Шотландии».[248]
Рассказав о поистине «старой традиции» королей Англии покорять Шотландию, Роберт из Эйвсбери переходит к описанию одного бесславного эпизода в английской истории, сходного с теми событиями, которые произошли в 1328 г.: Ричард I, «вопреки совету лордов своего королевства», не только заключил мир с Шотландией, но и отказался от сюзеренитета над ней, вернув все права, по которым он мог требовать что-либо с короля Шотландии и его наследников «на основании клятв верности». И хотя король Шотландии принес Ричарду оммаж «за то, что держал от него в Англии», «мудрым людям показалось, что король, не спросив совета у своего народа, не мог отчуждать права своей короны с таким уроном для королевства и против чести короля… и что король должен хранить права своего королевства и честь короны нетронутыми, и обязан силой отобрать отданное».[249] Но уже в 1208 г. Иоанн Безземельный вторгся в Шотландию с большой армией, принудил короля Вильгельма к сдаче и взял двух его дочерей в заложницы. Особо большого успеха англичане добились при Эдуарде I: в 1291 г., после того как умер король Александр, «имевший трех дочерей и ни одного ребенка мужского пола», к королю Англии «как к сюзерену короля Шотландии» прибыли «знатные люди из королевства Шотландия» (среди которых были Джон Бэллиол и Роберт Брюс), для того чтобы «вместе со всеми другими лордами, а также прелатами королевства» принести ему клятву верности, а также сообщить ему, что «только тот получит королевство, кому это право будет передано в его [Эдуарда I. – Е. К.] присутствии»,[250] тем самым они предоставили английскому королю право избрания вассального от него короля Шотландии. Отказ Роберта Брюса от данной клятвы и последовавшая за этим освободительная война шотландцев позволяют другому историографу – автору хроники «Брут» – именовать его «тираном и предателем», восставшим против законного сеньора.[251]
Хронисты часто пытаются создать у читателей впечатление, что сам король Эдуард III, а также английская знать, особенно те ее представители, которые были лишены Робертом Брюсом шотландских владений, были недовольны «вечным» миром с Шотландией. Этот мир воспринимался как неуважение к ратным подвигам предков, проявление слабости, «позор» и «бесчестье» для всего английского народа и даже как предательство со стороны короля, вернее, по отношению к королю, поскольку этот мир заключал не сам король, оправданием которому служит его юный возраст, а вор и узурпатор Мортимер, уже понесший наказание за свои преступления. Согласно хронике «Брут», существовало еще одно основание, позволяющее считать мир с Шотландией незаконным: «предатель» Мортимер заключил его без согласия парламента.[252] Подобное сознательное искажение фактов, направленное на депроблематизацию постыдных эпизодов прошлого, – явление вполне характерное для английской историографии периода Столетней войны. Английским хронистам удалось в какой-то степени передать те настроения, которые витали при дворе короля: большинство прямо намекает на то, что англичане ждали войны с Шотландией, так как только она могла смыть позор с королевства. Что же касается оправдания войны, то в данном случае оно сильно отличалось от трактовки причин конфликтов с Испанией и Францией. В соответствии с английскими традициями и историей короли были обязаны стремиться установить господство над Шотландией.
Из текста хроник можно извлечь еще одно обоснование начала военных действий в этом регионе. После смерти Роберта Брюса «лишенные наследства» английские лорды, «имеющие право на большие владения в Шотландии, либо сами, либо через их жен»,[253] решили начать войну за свои земли. Предводителем они избрали Эдуарда Бэллиола, сына бывшего короля Шотландии Джона (умершего в 1313 г. во Франции). Летом 1332 г. английское войско отплыло в Шотландию из портов в графстве Йорк. Именно претензиям Эдуарда Бэллиола суждено было стать второй причиной войны Англии и Шотландии.
Достаточно любопытно, как английские авторы трактуют роль Эдуарда III в этих событиях. С одной стороны, он находился в мире со своим зятем, королем Шотландии, с другой – среди «лишенных наследства» были и те, кто помог ему захватить власть. При этом невыгодный для Англии мир, заключенный в достаточно сложное для короля Эдуарда время, который все его подданные воспринимали как «позорный», еще не означал, что король навсегда забудет об идее покорения Шотландии. Одни хронисты утверждают, что «лишенные наследства» обратились к Эдуарду III с просьбой разрешить им пройти с войском через его земли для того, чтобы вторгнуться в Шотландию с юга.[254] Другие полагают, что не «лишенные наследства», а сам Бэллиол советовался с Эдуардом III перед отплытием, прося его разрешения на проход армии через владения короля,[255] а также, по-видимому, добиваясь помощи и согласия на попытку отвоевать Шотландию. Король Англии не дал своего согласия, «поскольку Дэвид, король Шотландии, был женат на его сестре», поэтому англичане были вынуждены отправиться в Шотландию по морю.[256] Рассказывая об этом, Джон Капгрейв и Адам из Маримута подчеркивают благородство короля, оставшегося верным договору с мужем его сестры, даже не пытаясь как-то объяснить принятое им позже решение поддержать Бэллиола. Нисколько не смущаясь, они оставляют без комментариев сообщение о вторжении армии короля в Шотландию в 1333 г. Так, например, Капгрейв сразу же после рассказа о запрете войскам «лишенных наследства» проходить через земли короля Англии и описания их первых сражений с шотландцами переходит к сообщениям о вторжении в Шотландию Эдуарда III и взятии им города Берика.[257] По всей видимости, король Эдуард отказался поддержать вторжение за Твид, поскольку оно могло быть легко отнесено на его счет. Однако в то же время он был готов закрыть глаза на планы «лишенных наследства» вторгнуться в Шотландию с моря. В этом случае, если бы их предприятие закончилось неудачей, он мог бы публично отречься от них и конфисковать у «непокорных подданных» их владения в Англии. Подтверждение этой версии содержится в «Скалахронике» сэра Томаса Грея, жившего на севере Англии и прекрасно осведомленного обо всех проблемах «лишенных наследства» лордов, многих из которых он знал лично. Грей прямо указывает, что, не получив военной помощи от короля Англии, лорды попросили «позволить им действовать самостоятельно и пустить дело на самотек»,[258] то есть попросту закрыть глаза на их экспедицию и не чинить препятствий.
Особого внимания заслуживает тот факт, что, несмотря на последующее признание Эдуардом III Бэллиола королем Шотландии, английские хронисты по-разному трактуют его права на корону: так, например, для автора «Анонимной хроники из монастыря Девы Марии в Йорке», автора хроники «Брут», одного из анонимных продолжателей этой хроники (вторая половина XIV в.), Ранульфа Хигдена, Роберта Фабиана и Ричарда Графтона Бэллиол – «король Шотландии»,[259] для Томаса Уолсингема он – «по праву претендующий на королевство Шотландия»,[260] а для Джона Капгрейва всего лишь «человек… претендующий на то, чтобы иметь право на корону Шотландии»,[261] Роберт из Эйвсбери, хронист из Бридлингтона и сэр Томас Грей уклончиво называют его «сыном и наследником» господина Джона Бэллиола, «бывшего короля Шотландии».[262] А вот Жан Фруассар, который вслед за Ле Белем вообще ничего не пишет о правах Бэллиола на престол, упоминает о нем лишь вскользь, как о неком «добром рыцаре», назначенном Эдуардом III комендантом и управляющим городом Бериком.[263]
В конце марта 1332 г. Эдуард III проинформировал шерифов северных графств о том, что он узнал о вторжении войска в Шотландию вопреки миру 1328 г., повелевая им остановить и арестовать нарушителей.[264] Но поскольку это не было сделано, вполне вероятно предположить, что послания шерифам сопровождались устной инструкцией, отменявшей письменную.[265] В сентябре 1332 г. парламент выделил королю средства для защиты границ королевства с севера от шотландского вторжения. Но, прибыв в Йорк с войском, Эдуард узнал, что Бэллиол уже короновался в Сконе (24 сентября).[266] Впрочем, без английской помощи новоиспеченному государю было бы очень трудно закрепить свой успех. Прекрасно это осознавая, Бэллиол в конце ноября того же года издал два открытых письма, в которых объявлял о том, что отвоевал королевство «при помощи короля Эдуарда и добрых англичан», признавал, что Шотландия всегда была английским фьефом, а также в благодарность обещал передать королю Эдуарду ряд пограничных земель и до конца жизни не менее шести месяцев в год у нести военную службу, выставляя 200 латников там, где это нужно королю Англии, включая Гасконь «и повсюду, где король может держать земли или претендовать на них».[267]
Успех Бэллиола, а также его прокламации способствовали изменению отношения Эдуарда III к войне, которую тот вел. Довольно быстро Эдуард III согласился поддержать Бэллиола, и весной 1333 г. английские войска пересекли шотландскую границу. Свое решение король оправдал тем, что шотландцы постоянно нарушали мир, вторгаясь в пределы Английского королевства и причиняя вред подданным английской короны.[268] Большинство хронистов объясняют начало войны с Шотландией тем, что король весьма тяготился «позорным миром», от которого страдал не столько он сам, сколько его верные подданные.[269] Историографы также не отрицают того, что на королевское решение повлияла «передача Эдуардом Бэллиолом королю Англии города Берика с пятью графствами… и обещание принести оммаж за остальную Шотландию».[270] Согласно версии Джона Капгрейва, король Эдуард III, уже после успешных действий Эдуарда Бэллиола и «лишенных наследства» в Шотландии, рассудил следующим образом: поскольку «шотландцы всегда были неверными и полными измены и они никогда не соблюдали перемирие, но всегда собирали силы против нас [англичан. – Е. К.]; также считая, что свадьба и весь мир были заключены сэром Роджером Мортимером, когда он [король Эдуард. – Е. К.] находился в юном возрасте», то, «обдумав все это, он собрал большое войско для вторжения в Шотландию».[271] Таким образом, для оправдания нарушения Эдуардом III условий Нортгемптонского договора (1328 г.) приводится не только отказ короля признать «позорный мир», заключенный без его согласия лордом Мортимером, но и обвинение самих шотландцев во враждебных по отношению к англичанам действиях и замыслах.
Стоит отметить, что в изложении некоторых хронистов зачастую отсутствует элементарная логическая связь между фактами, о которых они рассказывают. Причиной этого является то, что историографы стремились не запятнать светлый образ весьма популярного короля, дабы в любой ситуации он выступал поборником справедливости. Тем не менее следует отметить, что, несмотря на противоречивость и определенную размытость содержания хроник, в целом восприятие причин войны идентично у всех авторов рассматриваемых источников.
Итак, суммируя вышесказанное, можно заключить, что большинство английских хронистов приводит две основные причины, оправдывающие начало войны в Шотландии. Во-первых, «позорный мир» затрагивал национальную гордость англичан, которые не могли смириться с утратой суверенитета над Шотландией, установления которого их предки добивались веками. Во-вторых, этот мир лишал многих англичан земель, принадлежащих им по праву наследования. Помимо подданных английской короны, к числу утративших отцовское наследство относился и Эдуард Бэллиол, защита интересов которого могла рассматриваться не только в свете христианского долга оказания помощи несправедливо пострадавшему, но и в плане обязанности сеньора отстаивать права своего вассала.
Король Англии разделил свою армию на две части: первой командовал Бэллиол, второй – он сам. 19 июля 1333 г. шотландская армия была разгромлена при Хэлидон-Хилле в двух милях от Берика. После этой победы король Англии сделал Эдуарда Бэллиола капитаном Берика и Хранителем Шотландии.[272] Таким образом, он решал вопрос об управлении Шотландией так же, как и его предки – покорители и сюзерены этих земель. В феврале 1334 г. Бэллиол щедро наделил землями «лишенных наследства», а также наградил других воевавших на его стороне англичан за счет конфискованных владений «изменивших» ему шотландцев. Графство Бахан было присуждено Генриху Бьюмонту, Стрэтэрн – Джону Уорену, Мар – Ричарду Тальботу и т. д. Кроме того, в знак благодарности своему сеньору Эдуарду III Бэллиол «на все времена» передал английской короне восемь шерифств с городами Берик, Роксборо, Селкирк, Пиблс, Эдинбург, Линлитго, Хэддингтон и Дамфрис – то есть весь Лотиан, самую богатую область Шотландии. За то, что осталось от королевства, Бэллиол в очередной раз присягнул королю Англии.[273]
Победа на севере была важным условием успешной борьбы против Франции: она избавляла Англию от перспективы войны на два фронта. «По общему мнению, – писал Адам из Маримута, – шотландские войны подошли к концу. Ибо среди этого народа не осталось никого, кто имел бы влияние, чтобы собрать войско или умение его возглавить».[274] Таким образом, в сознании англичан, отраженном в хронистике, полной победой короля Англии закончилась война, которую он справедливо вел, отстаивая свою честь, права, унаследованные от предков, а также защищая границы самой Англии от напавших на нее врагов.
К несчастью для англичан, успех Бэллиола и его сторонников не был долговечным. Молодой король Дэвид и его жена нашли убежище при дворе французского короля Филиппа VI. В отсутствие короля сопротивление возглавили граф Морей Джон Рэндолф, Роберт Стюарт и Эндрю Морей, которые воевали так удачно, что осенью 1334 г. войска Бэллиола отступили под защиту стен Берика. Более того, даже некоторые «лишенные наследства» примкнули к сторонникам Брюса. Комментируя это «восстание» шотландцев, монах из Бридлингтона отмечает, что враги руководствовались «древней злобой… возвращаясь к ней, словно пес на свою блевотину».[275] В августе 1335 г. Эдуард III решил снова поддержать Бэллиола: после ряда побед многотысячное англо-шотландское войско достигло Перта. Этот, а также все последующие походы против Шотландии осуществлялись уже под предлогом подавления «мятежа», ведь король Шотландии являлся вассалом Эдуарда III.
Однако противники Бэллиола не прекратили сопротивление. В 1336 г. король Англии предпринял новый поход для покорения «восставших подданных» в Шотландии, в ходе которого англичане смогли добиться лишь временного успеха.[276] С началом военных действий во Франции покорение Шотландии превратилось из главной во второстепенную цель английской политики. Впрочем, не стоит забывать о франко-шотландском договоре о военном союзе, условия которого шотландцы выполняли честно, предпринимая иногда по несколько походов в год. Короли Англии были вынуждены постоянно вести войну на два фронта, тратя большие денежные и людские ресурсы уже не столько на покорение Шотландии, сколько на защиту северных границ Англии. В 1338 г. в письме к папе, полностью приведенном в хронике из приората в Ланеркосте (Камбрия), король Эдуард написал буквально следующее: «Дэвид Брюс, претендующий на королевство Шотландия, всех шотландцев к себе привязал, мятежников и врагов наших, которые против нас и вассала дорогого родственника нашего Эдуарда, короля Шотландии, на войну предательски поднялись и на земли наши, как в Англии, так и в Шотландии, напали… под покровительством союза, некогда заключенного между Францией и Шотландией».[277] Таким образом, очевидно, что с этого момента Эдуард III время от времени приводил в качестве оправдания военных действий в Шотландии долг суверена, предписывающий ему защищать «право» и «истинный закон» вассала, попираемые «не имеющим на это никаких прав» сыном «тирана, нечестивца и клятвопреступника» Роберта Брюса.[278] По всей видимости, вступив в союз с Эдуардом Бэллиолом, король Англии полностью забыл не только о своем договоре 1328 г. с Робертом I, но и о родственных чувствах к его сыну, к которым он апеллировал в 1332 г. Во второй половине 30-х гг. Эдуард трактовал войну шотландцев за независимость как восстание мятежных подданных. Поэтому неудивительно, что «подстрекательство» шотландцев к «мятежу против законного сюзерена» называется хронистами и самим королем Эдуардом среди причин для войны против Филиппа Валуа, о чем уже упоминалось в предыдущем разделе.
В том же 1338 г., готовясь к походу во Францию, Англия в спешном порядке заключила перемирие с Шотландией, которое было весьма непопулярным среди подданных английской короны, особенно среди тех из них, кто был непосредственно заинтересован в шотландских землях: по мнению Томаса Уолсингема, это перемирие для англичан было «вредным, непочетным, неспокойным, а для шотландцев выгодным и приятным».[279]
В 1341 г., вскоре после возвращения Дэвида II в Шотландию, Бэллиол бежал в Англию. В 1347 г. он в последний раз появился в своем королевстве, которое он в 1356 г. полностью передал Эдуарду III.[280] Сэр Томас Грей так объясняет поступок Бэллиола: «Эдуард Бэллиол, король Шотландии, отдал свою корону и титул королю Эдуарду, поскольку все шотландцы были мятежниками, а у него не было наследника или близкого родственника… а также потому, что… он не мог найти человека лучше для передачи титула и короны».[281]
Узнав о том, что английская королевская армия занята осадой Кале, Дэвид II вторгся в Англию осенью 1346 г. Недалеко от Дарема путь ему преградило ополчение, созванное королевой Филиппой и архиепископом Йоркским. 17 октября в битве при Невиллс-Кроссе шотландцы потерпели сокрушительное поражение: многие магнаты были убиты или взяты в плен, тяжелораненый Дэвид II также оказался в английском плену.
11 лет король Дэвид провел в Тауэре, пока Шотландией управлял его племянник Роберт Стюарт. С 1348 г. шотландцы вели бесконечные переговоры о выкупе короля. В 1352 г. Эдуард III, взяв с Дэвида честное слово, отпустил его в Шотландию для сбора выкупа. Генрих Найтон рассказывает, что после того, как Дэвид огласил в парламенте непременное условие своей свободы – признание, в случае отсутствия у него детей, наследником шотландской короны Эдуарда III, шотландцы «в один голос заявили, что желают выкупить своего короля, но не подчинятся королю Англии».[282] Более того, по версии Генриха Найтона, «шотландцы отказались принять своего короля, пока он полностью не отречется от влияния англичан, и также отказались сами подчиниться им… В противном случае они угрожали выбрать себе другого государя».[283] 3 октября 1357 г. Берикский договор принес свободу Дэвиду II за выкуп в 100 тысяч марок, подлежавших уплате по 10 тысяч в год, на срок выплаты которых объявлялось перемирие.[284] Довольно любопытно замечание, которое Джон из Рединга добавил к рассказу о выкупе шотландского короля. По версии этого хрониста, стремящегося максимально очернить извечных противников англичан и продемонстрировать всю глубину вероломства и подлости, якобы присущих этому народу, в 1367 г., когда срок выплаты выкупа истек, а шотландцы отказались вносить оставшуюся сумму, поскольку полагали, что «король Англии состарился и стал бессильным», сам Дэвид II обвинил своих подданных в коварстве и неуважении к его сединам.[285]
Исходя из вышесказанного, существующую в английской хронистике времен Столетней войны картину можно резюмировать следующим образом: Эдуард III, как и его предки, стремился установить сюзеренитет короля Англии над Шотландией, опираясь на первом этапе на представления о том, что мир с Шотландией является «позором» для Англии и от него необходимо отказаться как можно быстрее. Эдуард также был вынужден учитывать стремление англичан отвоевать «свои» земли в Шотландии, которых они лишились по ненавистному им договору. В дальнейшем же основанием для войны стал договор с Бэллиолом, воспринимаемым в качестве «законного короля Шотландии» и принесшим Эдуарду оммаж. Эдуард III, а также его преемники перестали нуждаться в каком-либо поводе для начала военных действий, поскольку любое волнение в Шотландии стало отныне трактоваться англичанами как восстание против законного сюзерена. Последнее обстоятельство предоставляло королям Англии – Эдуарду III и его наследникам прекрасную возможность всегда иметь предлог для ведения войны с Шотландией – главным союзником Франции в Столетней войне. Поэтому неудивительно, что к моменту начала войны с Францией война в Шотландии воспринималась англичанами как привычное явление, как старый конфликт между сюзереном и непокорными вассалами, а следовательно, для хронистов не было необходимости каждый раз рассказывать о причинах данной войны. Обыкновенно английские авторы предпочитали ограничиваться простым сообщением о том, что шотландцы снова нарушили мир и их нужно наказать за это.
215
Florence of Worcester. Cronicon ex Chronicis // Scottish Annals from English Chronicler / Ed. A. O. Anderson. L., 1908. P. 65.
216
Anglo-Scottish Relations, 1174–1328 / Ed. E. L. Stones. L., 1965. № 1; Басовская Н. И. Столетняя война 1337–1453… С. 15.
217
Anglo-Scottish Relations, 1174–1328… № 2.
218
Guenée B. L’enquête historique ordonnée par Edouard I, roi d’Angleterre, en 1291 // Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1975. P. 572–584.
219
Anglo-Scottish Relations, 1174–1328… № 20; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах. М., 1996. С. 144.
220
В 1294 г. началась англо-французская война (1294–1303), вызванная тем, что Филипп IV объявил о конфискации герцогства Гиени у Эдуарда I.
221
Foedera (2). Vol. I. Part II. P. 830–832.
222
The Acts of the Parliaments of Scotland / Ed. Th. Thompson. Edinburgh, 1841. Vol. 1. P. 95–97.
223
В 1296 г. Джон Бэллиол отрекся от своей клятвы верности Эдуарду I (Foedera (2). Vol. I. Part II. P. 839).
224
Басовская Н. И. Столетняя война 1337–1453… С. 24–25.
225
Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 148–180.
226
Басовская Н. И. Столетняя война 1337–1453… С. 31–32.
227
Anglo-Scottish Relations… № 40; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 179.
228
Anglo-Scottish Relations… № 41; Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 734; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 179.
229
Avesbury. P. 283.
230
The Acts of the Parliaments of Scotland. Vol. I. P. 462; Anglo-Scottish Relations… № 40, 42; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 187.
231
Avesbury. P. 283.
232
Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 1; Walsingham. Vol. I. P. 192.
233
Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 1; Walsingham. Vol. I. P. 192; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 98–99; Annales Paulini. Vol. II. P. 342; Capgrave. P. 201–202; Gray. P. 81–82; Le Baker. P. 41; Avesbury. P. 185; Hardyng (2). P. 317–318; Grafton. P. 331; Fabyan. P. 439–340; Gregory. P. 78–79.
234
Burton. Vol. II. P. 358.
235
Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 2; Walsingham. Vol. I. P. 192; Burton. Vol. II. P. 358.
236
Fabyan. P. 441; Grafton. P. 352; Chronicles of London… P. 10; The Brut. Vol. I. P. 259–260, 268–272; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 2–3; Walsingham. Vol. I. P. 192; Le Baker. P. 47; Hardyng (2). P. 319; Avesbury. P. 283.
237
Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 2; Walsingham. Vol. I. P. 192.
238
The Brut. Vol. I. P. 251.
239
Ле Бель, Жан. Правдивые хроники // Хроники и документы Столетней войны… С. 76–77; Le Bel. Vol. I. P. 108–109.
240
Avesbury. P. 286–287. См. также; Гальфрид, 70.
241
В качестве показательного примера можно привести многочисленные учебники по «истории России с древнейших времен и до наших дней».
242
The Brut. Vol. I. P. 256.
243
Ibid. P. 259.
244
Ibid. P. 255.
245
Фруассар. Амьенский манускрипт. С. 80–83. В более поздней редакции Фруассар опустил рассказ о древнейших временах, отметив, однако, что англичане утверждали, что «уже на протяжении ста лет король Шотландии должен приносить оммаж королю Англии за все свои владения» (Римский манускрипт. С. 302). Froissart. Vol. II. P. 248–257.
246
Avesbury. P. 287.
247
На самом деле Эдред (946–955) был сыном Эдуарда Старшего (899/901–924) и, соответственно, младшим братом Этельстана (924–939).
248
Avesbury. P. 288–289.
249
Ibid. P. 289–290.
250
Ibid. P. 290–293.
251
The Brut. Vol. I. P. 255.
252
Ibid. P. 255–256.
253
Capgrave. P. 201; Adam Murimuth. P. 69; Gray. P. 88–89; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 103–104; The Brut. Vol. I. P. 275; Burton. Vol. II. P. 362; Le Baker. P. 49; Avesbury. P. 296; Hardyng (2). P. 319; Fabyan. P. 442–443.
254
The Brut. Vol. I. P. 275.
255
Avesbury. P. 286; Burton. Vol. II. P. 362; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 3.
256
Capgrave. P. 201; Le Baker. P. 49; Adam Murimuth. P. 69.
257
Capgrave. P. 201–202.
258
Gray. P. 88.
259
The Anonimalle Chronicle. P. 1; The Brut. Vol. I. P. 274; Vol. 2. P. 291; Higden (Caxton). Vol. VIII. P. 330; Fabyan. P. 442; Grafton. P. 337.
260
Walsingham. Vol. 1. P. 193.
261
Capgrave. P. 201.
262
Avesbury. P. 296; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 102; Gray. P. 89.
263
Фруассар. Манускрипты «семейства А/В». С. 436; Froissart. Vol. II. P. 275.
264
Lanercost. P. 267; Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 833, 842–843, 847–848.
265
Sumption J. The Hundred Years’ War. Trial by Battle… P. 126.
266
Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 848–849; Burton. P. 361; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 108–109; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 3; Walsingham. Vol. I. P. 195; The Brut. Vol. I. P. 280; Nicholson R. Edward III and the Scots. Oxford, 1965. P. 77–79.
267
Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 848; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 108–109; Nicholson R. Edward III and the Scots. P. 92–94, 96–97.
268
Foedera (2). Vol. II. Part II. P. 857.
269
Gray. P. 93; Le Baker. P. 50; Walsingham. Vol. I. P. 195; Grafton. P. 335.
270
Gray. P. 94; Burton. P. 371; The Brut. Vol. I. P. 280. Vol. II. P. 291; Grafton. P. 337; The Anonimalle Chronicle. P. 1; Fabyan. P. 442.
271
Capgrave. P. 201–202.
272
Ibid. P. 202; Adam Murimuth. P. 70–71; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 4; Walsingham. Vol. I. P. 196.
273
The Brut. Vol. I. P. 280; Higden (Caxton). Vol. VIII. P. 330; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 4; Walsingham. Vol. I. P. 196; Eulogium Historiarum. Vol. III. P. 201–202; The Chronicle of Bridlington Priory. P. 118–119; Burton. Vol. II. P. 371; Annales Paulini. P. 361; Annales de Oseneia. P. 349; Fabyan. P. 442–443; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… C. 188.
274
Adam Murimuth. P. 78.
275
The Chronicle of Bridlington Priory. P. 128.
276
Adam Murimuth. P. 79–80; Chronicon Angliae, 1328–1388. P. 4–5; Walsingham. Vol. I. P. 196–197; Lanercost. P. 178; Burton. Vol. II. P. 373–378; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 189.
277
Lanercost. P. 299–300.
278
Ibid. P. 299–300; The Brut. Vol. I. P. 255–259.
279
Walsingham. Vol. I. P. 200.
280
Avesbury. P. 452–453; Gray. P. 120; The Brut. Vol. II. P. 307; Walsingham. Vol. I. P. 281; Adam Murimuth. P. 186–187; Capgrave. P. 217.
281
Gray. P. 120.
282
Knighton (1). P. 112.
283
Ibid. P. 120–122.
284
The Acts of the Parliaments of Scotland. Vol. I. P. 518–521; Reading. P. 128; Capgrave. P. 218; Adam Murimuth. P. 190; Gray. P. 127; Knighton (1). P. 157; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах… С. 193.
285
Reading. P. 179–180.