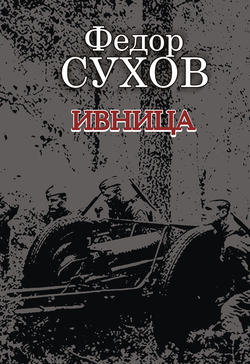Читать книгу Ивница - Федор Сухов - Страница 10
Часть первая
8
ОглавлениеНедели две простояли мы в поспевшем на наших глазах и уже начавшем осыпаться ржаном поле. Немногие из нас знали, что мы были как бы в предбаннике, а настоящая баня, с жаром, с пылом, была на северной окраине Воронежа, в районе села Подклетного и Подгорного, как раз там, откуда привели лейтенанта Гривцова.
Не помню, ночью или днем снялись мы со своих позиций, но хорошо помню занятые нами новые позиции, помню низкорослый, свилевой, заляпанный коростой сосенник. Под ним, тоже весь в лишайниках, песок, в этом песке надо было окопаться. И мы окапывались, то и дело окуная, как в воду, в наспех вырытые нами лунки ошеломленные касками головы. Теперь немцы били не только по Задонскому шоссе, они не оставляли в покое ни одного кустика, ни одного деревца, доставалось и нашему сосеннику. Сначала отдаленно завывало, потом быстро нарастало каким-то шепеляво-ноющим шелестом и напоследок смачно шлепалось. Сперва я не знал, что это такое, но вскоре по стабилизаторам узнал – тяжелые мины.
Не скажу, чтоб меня удовлетворяла новая позиция, скажу только, что командир батальона по неизвестным мне соображениям держал мой взвод в резерве, таким образом, я и вверенные мне люди находились в некотором привилегированном положении. К нам нередко заглядывала наша батальонная санчасть, наша Валя. Она ходила между сосенок в легких хромовых сапожках, в короткой разглаженной юбке, в гимнастерке с яблочно закругленными карманами. Приносила с собой запах забытого нами туалетного мыла. Дразнила свежестью смело глядящего из-под расстегнутого воротника упругого девичьего тела. А строго надвинутая на правую бровь пилотка и гордая посадка красивой, не отягченной волосами, коротко подстриженной головы создавали впечатление вольного, ни от кого не зависимого поведения. Вольно вела себя наша Валя и под огнем немецких минометов. Она не кланялась даже близко разрывающимся минам, не обращала никакого внимания на их ноющий вой, наверно, считала, что красный крест на ее брезентовой сумке оградит ее от дико взвизгивающих, пронзающих сосновую хвою осколков. И только после одного сильного минометного налета до моего затопленного белым песком окопчика донесся впервые услышанный мной тревожно зовущий крик:
– Я ранена! Помогите!
Я быстро выбрался из окопа, подбежал к Вале, спросил, куда ее ранило?
Она показала на ноги. Из-под короткой юбки по обнаженным коленям текла свежо розовеющая кровь. Я растерялся, не знал, что делать, как помочь раненой девушке.
– Сумку подай!
Я подал.
– Бинт достань!
Достал бинт.
– Юбку подними!
На это я никак не мог решиться.
Валя сама рванула стягивающий пояс юбки, спустила ее на колени. Кровь текла из-под синих, окантованных красной материей трусов, Валя рванула их, обнажив нижнюю часть туго спрессованного живота. Возле паха родниково билась рудеющая – с пуговицу – слепая рана. Я стал придерживать наложенную на нее подушечку бинта, но мои пальцы била такая дрожь, что Валя крепко выругалась и тут же укоризненно покачала головой, горько улыбнулась. Эта улыбка придала некоторую смелость моим пальцам, они уверенней прикасались к бинту и к мраморно холодеющей белизне обнаженных ног. После перевязки раненая попыталась встать, но встать она не могла, я подсунул под нее свои ладони, ощутив ими тепло, похожее на тепло пролитого парного молока. Откуда-то прибежали санитары, они положили Валю на носилки. Носилки, покачиваясь, поплыли в глубь сосенника, а брезентовая сумка с красным крестом осталась на своем месте, возле окапанного кровью, землянично набрякшего песка.
Донимаемый беспрерывными минометными налетами, капитан Банюк решил вынести свой командный пункт в открытое поле, в подсолнечники. Мы тоже перебрались и окопались в подсолнечниках. Перебирались и окапывались ночью. А ночи наступили темные, под стать чернеющей под ногами, бугристо вылопаченной земле. На ней лежали отблески горящего Воронежа, дым поднимался до самого неба. А в небе монотонно, как бы кого-то убаюкивая, гудели наши тяжелые бомбардировщики – ТБ-3. Они легко попадали в ножницы кромсающих ночную темь немецких прожекторов и легко сбивались. Но как тяжело они падали, как тяжело расставались со своим ночным, не так уж высоким небом!
– Смотрите, товарищ лейтенант! – Я увидел поднятую голову стоящего впереди меня, всегда болезненно наморщенного Адаркина, а над его головой схваченную прожекторами белую, явственно различимую точку, слепо летящую – как бабочка под абажуром лампы – на фонтанно хлещущие струи зенитного огня. Точка вспыхнула, прожектора шарахнулись, прижались к земле. А земля тряхнулась, да так, что долго был слышен ее нутряной надсадный стон.
На этот раз я не рыл себе отдельного окопчика, ясно понимая, что я должен разделить судьбу вверенных мне бойцов, а их было одиннадцать человек на шесть противотанковых ружей, волей-неволей пришлось присоединиться к глуховатому Симонову, занять место убывшего Селиванчика.
Окоп Симонов уже вырыл, подковообразный, с площадкой для ружья, с нишей для противотанковых гранат и бутылок с зажигательной смесью.
Мы все довольно точно научились узнавать время по звездам, по черпаку Большой Медведицы. Даже Наурбиев, когда приходила его очередь стоять на посту, долго глядел на небо и безропотно становился только в том случае, если убеждался, что сменяемый с поста Тютюнник не спутал Большую Медведицу с Малой Медведицей или с созвездием Гончего Пса.
Не мокрели мои портянки, мои ноги, росы не было, она не могла выпасть, слишком было жарко, даже ночью все везде горело. Не взмокшая в росе августовская ночь звенела (в ушах моих), нет, не кузнечиками, вернее, не звенела она, она гудела, она ухала одиночными взрывами тяжелых снарядов, выгибала лебединые шеи зеленоватых ракет, при их свете четко обозначались упрямо склоненные затылки подсолнечников, они, эти подсолнечники, почему-то напоминали стадо баранов перед воротами бойни, перед воротами мясокомбината. Вскоре я догадался, что в ушах моих гудит моя кровь, она уже слышала приближение рассвета.
Глуховатый Симонов молча перебирал ружейные патроны, протирал их вынутой из сумки портяночной тряпкой. На правой руке его – как я это не заметил раньше – не хватало указательного пальца. Значит, из ружья стрелять он вряд ли сможет, стрелять придется мне, а Симонов, пусть он хорошенько протирает патроны да готовит к бою противотанковые гранаты.
За нашей спиной в тихо выбрезжешимся рассвете рождался (ах лучше бы он не рождался, не вставал на ноги) еще один день фронтового лиха. Его зари я не увидел, видел только кровоподтеки да ту нездоровую желтизну, которая обычно бывает под глазами измученного лихоманью человека. Приблизилось время идти за завтраком. Пошел Адиркин и добровольно вызвавшийся старший сержант Миронов.
Сникли лебединые шеи зеленоватых ракет. Едва заметными стали стежки трассирующих пуль, зато явственней увиделся горящий Воронеж, и – чудно как! – в горящем городе что-то заскрежетало, как будто из трампарка выходили трамваи. Туговатый на уши Симонов, и тот услышал этот скрежет и горохом рассыпал свою певучую скороговорку:
– Как у нас в Златоусте заскриготало, ровно железо пластают. С чего бы это, товарищ лейтенант?
Я сам не знал, с чего бы это. Узнал немного после, когда перед нами забухали, встали черной стеной оглушающие взрывы.
Рыгали шестиствольные немецкие минометы – ишаки, они давились, рыгали и в самом деле, как ишаки… Началась минометно-артиллерийская подготовка. Длилась она… Я не могу точно сказать, сколько времени она длилась. Я не видел, когда взошло солнце, да и ничего я не видел, кроме спины Симонова да стоящего на козлиных ножках ружья.
Сейчас, по прошествии многих лет, вопреки общераспространенному мнению, что с годами забываются, стираются в памяти те или иные события, я, оставаясь наедине с самим собой, все острее ощущаю пережитое, зримо живущее во мне, не дающее ни на минуту забыть – ах какая малость! – ну хотя бы склоненный над окопом подсолнечник. Я хотел увидеть солнце, но увидел этот подсолнечник, он показался мне черно и страшно взглянувшим на меня затемненным солнцем.
– Симонов, ты живой?
– Живой, товарищ лейтенант!
Я поднял голову, на этот раз подсолнечник показался подсолнечником, но над его жилистым упрямым затылком в водянистой голубизне неба разворачивались – сколько их? – по-верблюжьи горбатые пикирующие бомбардировщики – «Юнкерсы-87».
– Воздух!
Кто это крикнул? Тютюнник? Нет, не Тютюнник, Загоруйко крикнул своим тоненьким мальчишеским голоском.
Симонов схватил ружье, но не знал, что с ним делать.
– Пригнись!
Симонов пригнулся, подставил под перехваченное мною ружье свою широкую, изъезженную вещмешком, солончаково белеющую от пролитого пота спину.
«Юнкерсы» стали снижаться, входить в пике. Одного из них, ведущего, я поймал на мушку и, взяв упреждение, выстрелил. Симонов зажал уши, но ненадолго, он опять опустил руки, уперся ими о стенки окопа. Стоял непоколебимо.
– Подбили! Одного подбили!
Знать, и вправду подбили. Я видел, как стремительно падал, ястребино раскогтясь, с плоскими, ровно отрубленными крыльями самолет. Падал он прямо на нас, выпустив из своих когтей пять бутылочно блеснувших на солнце непонятных штуковин, напоминающих широко растопыренные пальцы. Мелькнула давно затаенная соблазнительно-обольщающая мысль: наконец-то капитан Банюк скажет и обо мне, и о моем взводе доброе слово, а старший политрук Салахутдинов, он непременно, ссылаясь на конкретный пример, будет говорить о том, что вверенное нам оружие способно вести борьбу не только с танками, оно способно уничтожить и любой вражеский самолет… Недолго подпрыгивало, недолго тешилось нежданной радостью мое сердчишко. «Подбитый» «юнкерс», как пловец с вышки плавательного бассейна, нырнул, утробно взвыв, и невредимо вынырнул, пройдясь по нашим спинам крестообразно раскинутой тенью. А то, что казалось растопыренными пальцами, как цепами, пошло молотить утыканное подсолнечниками поле. Я снова глянул на небо, неба не увидел, увидел летящие прямо на меня черные кресты. Опять было припал к прикладу ружья, но выстрелить не выстрелил, меня придавило истошно воющим, падающим на землю небом. Я чувствую, что я живой, но не могу подняться. Напрягаюсь, стряхиваю упавшее на мои плечи небо и, не зная, что сталось после только что оттопавшей бомбежки с вверенным мне взводом, не своим голосом, давясь застревающими в горле словами, кричу:
– Взвод, к бою!
Поднял накрытую каской голову Тютюнник, задвигался Наурбиев, резво выпрыгнул из окопа Загоруйко, раздвинул ножки ружья и надежно укрепил их на заваленной листвою подсолнечника площадке. Мой напарник Симонов, он тоже потянулся к ружью, легко взял его под лодочку магазинной коробки и нацелил на дымно горящий Воронеж.
Командир взвода противотанковых ружей, я окунулся в пучину воочью увиденной войны, но что я знал о войне? Ничего я не знал о войне. Я видел бушующие волны, но не видел моря, не мог ощутить его глубинного течения. Я подал команду «к бою!», а боя-то не было, вернее, он был, но не в подсолнечниках, был там, где окопался взвод младшего лейтенанта Ваняхина, это на северо-западной окраине села Подклетного, невдалеке от памятной рощицы, условно поименованной рощей «сердце».
С наступлением темноты моему резервному взводу было приказано выдвинуться на позиции, которые занимал младший лейтенант Ваняхин.
– Конкретную задачу получишь от командира роты! – так сказал капитан Банюк, когда я заявился на командный пункт батальона.
Я готов был выполнить любое приказание, но ушедшие за завтраком Адаркин и старший сержант Миронов все еще не вернулись, думалось: убило или ранило, и как я обрадовался, когда увидел несущего все шесть котелков Адаркина.
– А где старший сержант?
– Я не знаю…
– Как не знаю?
Только спустя много дней и ночей я узнал, что случилось со старшим сержантом Мироновым, командир бригады полковник Цукарев представил мне возможность взглянуть на бывшего домуправа…
Мы быстро опорожнили котелки, за один присест позавтракали и поужинали.
Сгустилась темнота, под ее прикрытием мы – гуськом – подались навстречь на живушку сшивающим все время рвущийся воздух трассирующим пулям. Остановились возле побитой, как ржаное поле грозовым градом, небольшой рощицы.
Неподалеку, чмокаясь о чугун вывернутого фугасом грунта, трескуче вспыхивающими разрывными пулями хлестала пулеметная очередь. Пули мне показались страшнее снарядов, наверно, потому, что они, посвистывая, роились чуть ли не под ногами. Из обложенного диким камнем бункера вышел командир роты. Он был спокоен, взмахом руки приказал мне прилечь, потом сам прилег рядом со мной и как-то тепло, по-дружески стал вводить в обстановку, которая создалась на обороняемом ротой участке.
– Роту атаковало четыре немецких танка, два танка двигались на позиции, которые занимал младший лейтенант Ваняхин, один танк был подбит лично младшим лейтенантом, другой – стоящими неподалеку артиллеристами, остальные танки отступили после того, как они проутюжили окопы, занимаемые бойцами младшего лейтенанта. По всей вероятности, противник возобновит атаку. Наша задача: не допустить его к роще «сердце».
Лейтенант Шульгин говорил так, что я готов был незамедлительно приподняться и щелкнуть каблуками, но поблизости все время щелкали пули, и я надолго прилип к земле, не в силах оторваться от нее, преодолеть ее притяжение. Оторвался тогда, когда услышал уже другим, повелительным тоном сказанные слова:
– Выполняйте приказание, занимайте огневые позиции!
Мы их заняли, эти искромсанные железом, исщербленные, как под печи, жарко пышущие позиции.
Да, мы и вправду были как в печи, на ее горячем поду, а печь, она топилась, впереди дымился Воронеж, печь постреливала жаркими угольками. Взлетела ракета. Гусино шипя, упала чуть не на мою голову и как бы догола раздела меня, я напугался и, как в воду, опустился в омутово темнеющую воронку. Резко и отчетливо заклокотал пулемет, рассыпал, как по столу, дробь железно стучащих пальцев. Мне померещилось, что эти пальцы стучат по моей надвинутой на лоб каске. В детстве, ежедневно слушая бабушкины сказки об аде и рае, я молил Бога, чтоб он скорее прибрал меня к рукам. Бабушка говорила, что отрокам и отроковицам Господь самолично уготовил надлежащее местечко в раю, уготовил возле стоп своих, дабы узрела непорочная душа снизошедшее на нее Божье благоволение. Стал я взрослеть, стал чаще спрашивать бабушку: до каких лет сходит Божье благоволение на детские души?
– До десяти годков, голубь мой, до десяти годков…
Минуло мне десять годков. К тому времени я уже научился ругаться, но в Бога не ругался, боялся, что попаду в ад, в геенну огненную, ругнулся только тогда, когда Бог не помог мне взобраться на осклизшую гору с наворованными яблоками. Сказка о светлом рае умерла. Я меньше стал поглядывать на небо, стал больше присматриваться к земле. Я знал, что она большая, эта земля, на ней много сел и городов, много удивительных, никогда не виданных мной морей, рек. Чудно как-то, но когда началась война, я тайно обрадовался, я думал, что наконец-то мне представится возможность увидеть и родную Белоруссию, и золотую Украину. «Украина золотая, Белоруссия родная» – так пелось в предвоенной песне. Я сгорал от зависти к тем, кто, смертью смерть поправ, обретал как бы вторую жизнь, которая представлялась мне куда заманчивей всякого рая.
Я ждал рассвета, теперь уже точно зная, что с рассветом двинутся на мою душу рыгающие огненной геенной железные исчадья той самой смерти, которой я не боялся, а не боялся по очень простой причине: я никогда не видел ее близко.
Неглубокая, вырытая, как мне казалось, небольшим фугасным снарядом воронка в какой-то мере укрывала от пуль, от осколков, но вряд ли она могла укрыть меня от танковых гусениц, от их кромсающих чугунно-заклекшую землю железного лязга и скрежета.
Наползли непроглядно-черные тучи, они слизнули, как капли росы, напуганные войной звезды. Сгустилась тьма. Такая отяжеленная затученным небом тьма обычно бывает перед утром, когда заметно удлиненная ночь справляет поминки по недавно умершему месяцу. Так говорила бабушка.
Неохотно стал обозначаться рассвет, он осторожно раздвигал тьму, прикасался к моему лбу холодком синеватых губ. Я стал посматривать на пустые, неизвестно когда и кем вырытые окопы с тоскующим намерением перебраться из своего весьма уязвимого укрытия в более надежное убежище. В нескольких шагах комковато бугрилась рудой, буреющей землей какая-то ямина. Вероятно, окоп. Глянул и – попятился: я увидел прикрытый белыми волосами затылок, старую комсоставскую, из довоенной диагонали гимнастерку и… ремень, ремень походил на мой, выданный еще в Новоузенске, красноармейский ремень, Я оторопел. Потом вспомнил ржаное поле, распятую на незримом кресте летучую мышь, уходящего на позиции своего взвода Ваняхина, вспомнил наш обмен, вспомнил, как обрадовал меня мой старший товарищ…
Он припал на одно колено, припал так, как припадают, принимая присягу, я видел его затылок, но не видел лица, лицом он уткнулся в стенку окопа, обагренную то ли восходящим солнцем, то ли повсеместно полыхающими пожарищами.
– Второй взвод за снеданком! – послышался знакомый всем голос связного командира роты рядового Городецкого.
Приподнялся Тютюнник, значит, пришла его очередь топотать за завтраком.
Вернулся Тютюнник приголомшений (пришибленный), хотя все как будто было в надлежащем порядке. Котелки, наполненные отварной вермишелью, он донес благополучно, принес он по пять ложек на брата сахарного песку. Вермишель была съедена, а сахарный песок положен в вещевые мешки, и только винницкий колгоспник не оставил ни одной песчинки, все слизнул со своей длинной, выгнутой, как лемех, ладони. Быстро расправился он и с сухарями, которые были получены на трое суток. Потом сказал, что ему треба идти до командира роты.
Мне было непонятно, зачем Тютюннику понадобилось идти к командиру роты, когда вот-вот могут двинуться немецкие танки. Но я махнул рукой, и Тютюнник, плотно прижимаясь к земле, пополз к заросшему побитой полынью бункеру.
Я уже слышал, как бьют наши батареи, но мне казалось, что наши батареи робеют, наш огонь не мог утихомирить огонь немецких батарей, но я не мог не почувствовать, что в нашем огне все сильнее распалялся неукротимый гнев, тот гнев, который накопился больше чем за год войны, он, как пружина, сжимался, чтоб в какой-то день, в какой-то час разжаться, ощутимей ударить по врагу.
Они подошли близко-близко к переднему краю, почти вплотную придвинулись к белеющей перебитыми костьми, изувеченной рощице. И неожиданно (по крайней мере для меня, для бойцов моего взвода) шумно заиграли, запели, выбросив огненные длани, наши знаменитые «катюши», а когда они отыграли, отпели, ударили дальнобойные крупного калибра орудия, они клокотали, распалялись тем гневом, который накипел в груди попятившейся к Волге, к Дону, в поту и в крови вымокшей России. А через некоторое время из-за той же рощицы, низко пластаясь, вымахнули наши штурмовики, наши «ильюши». Разворачиваясь, они припадали чуть ли не до бруствера стрелковой ячейки немецкого пехотинца. Они сразу заткнули тявкающие глотки вражеских зениток. Я глянул на припавшего на левое колено младшего лейтенанта Ваняхина, мне хотелось, чтоб он приподнялся, посмотрел на скачущих по рогатым каскам крылатых всадников, а посмотрев, он бы, наверное, не сказал, что три секунды осталось жить…
Весь день, с утра до вечера, мы не отрывались от прикладов противотанковых ружей. Ждали танков. Но танки почему-то не показывались, можно предположить: испугались нашего огня, нашего гнева.
Вечером мы схоронили младшего лейтенанта Ваняхина, схоронили без речей и, разумеется, без слез, на войне не принято лить слезы… Тогда же я перебрался под подбитый младшим лейтенантом танк. Под танком, к своему немалому удивлению, встретил совершенно обезумевшего Селиванчика.
– Младший сержант, что ты тут делаешь?
Селиванчик выкатил измученные, с кровяными прожилками глаза и, ничего не сказав, упрятался под днище недвижимо стоявшего танка.
Недели через две, к концу августа, когда бои в районе Задонского шоссе и в районе Подклетного начали стихать, наш батальон сменил огневые позиции и окопался северо-восточнее Подгорного. Моему взводу было приказано окопаться возле дубового, кой-где просветленного березами леса. Сначала окапывались по ночам, потом, увидев, что немцы на нас особого внимания не обращают, стали окапываться и днем. Окопы, ходы сообщения все время обваливались. К началу сентября вырыли общий блиндаж, выкопан был и мой командирский блиндажик. Как раз в это время мы распрощались с Селиванчиком, проводили его к штабу батальона. Говорили, что капитан Банюк сам решил избавиться от младшего сержанта. Они встретились, но не узнали друг друга. Цепкая память капитана Банюка стала слабеть, он сам был серьезно болен и едва передвигал задеревеневшими в коленях ногами, сказался возраст, капитану перевалило за пятьдесят.